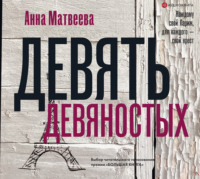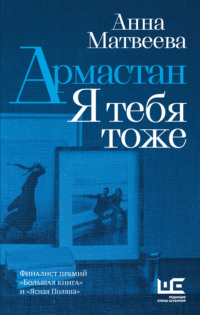Полная версия
Лолотта и другие парижские истории

Анна Матвеева
Лолотта и другие парижские истории
Красный директор
Рассказ в четырёх стихиях
Воздух
Бывший директор завода Павел Петрович Романов летел в Париж на свадьбу своей старшей дочери Александры.
Бывшими директорами, – как и бывшими русскими – не становятся. Романов намеревался работать даже не до пенсии, а до смерти, но его вытурили с завода в семьдесят лет. Такой вот подарок к юбилею – вместе с приветственным "адресом", напольными часами и букетом цветов, глядя на который, Павел Петрович подумал: лучше бы деньгами.
На заводе остались: просторный кабинет, хорошая зарплата, трепет трудового коллектива и душа. Душа-то и терзала его теперь с утра до вечера, не соглашаясь ни на какие подмены – рыбалка, кроссворды, телевизор, садовые работы, ничего ей не хотелось, кроме как вернуться на завод и работать дальше. Силы-то в нём ходили ещё ого-го какие, да и завод, в этом смысле, не кончился. Павел Петрович просыпался в шесть утра как привык за целую жизнь – и что прикажете делать дальше?
Младшая дочь Анна считала, что ему нужно больше времени проводить с внуками – играть с Игнатом в шахматы и водить Настю на гимнастику. Романов был, в принципе, не против, но внуки утомляли его куда сильнее, чем самые нерадивые подчиненные. По сравнению с Игнатом и Настей даже вороватый снабженец Кудрявцев, с которым они бодались не на жизнь, а на смерть, выглядел ангелом – особенно спустя столько лет. Одно из первых пенсионных впечатлений Романова – теперь он скучал не только по друзьям и соратникам, но даже по тем, кого не выносил. У подлеца Кудрявцева имелись связи наверху, и сковырнуть его с места было делом хлопотным. В конце концов, Романов, конечно, победил – он всегда побеждал – а теперь вдруг начал вспоминать Кудрявцева с тёплой улыбкой. Даже слезу однажды выпустил – капелька маленькая, как из шприца перед уколом.
А внуки… Ну что тут сказать – другое время, другие дети!
Дочери Павла Петровича, что Александра, что Анна, в детстве были послушными, скромными, учились – прилежно. Хоть и поздние они были дети, и отец у них директор завода, а мать – главный бухгалтер, а деды – ветераны войны (Романов-старший – тот, вообще Герой Советского Союза), но девочки были точно такие же, как все советские дети. Разве что в «Орлёнок» он их в детстве отправлял пару раз, но и всё на том. И без этого считалось, что детство у детей – счастливое. Самому Павлу Петровичу такого не досталось – он родился за год до войны. Жили очень бедно: мать сварит пустой суп, и детям положено было есть его, пока в кастрюле дно не покажется. И хлеб чёрный – липкий, горьковатый, но всё равно очень вкусный. Павлу Петровичу этот хлеб всю жизнь снится – и каждый раз во сне горбушка такая махонькая!
Тут как раз пассажирам привезли обед, начали раздавать коробки – Романов попросил на горячее курицу. Хотел достать сыр из пластиковой упаковки – никак не получалось. То ли он с возрастом стал такой беспомощный, то ли народ разучился делать всё на совесть? Романов склонялся ко второму. Вот и покойная супруга Антонина Фёдоровна в последние годы жизни часто ворчала, что люди совсем стыд потеряли. Разве можно так работать, если за тобой тут же приходится вызывать мастера, и всё переделывать? Это она про евроремонт. Все годы свои последние угрохала на этот ремонт, а потом слегла – да так и не встала.
– Давайте я помогу, – девушка, которая сидела рядом, сжалилась над Романовым, отобрала у него упаковку с сыром и в два счёта – чик-чик – вспорола её ноготками. Ногти выкрашены в разные цвета – два посредине красные, остальные – розовые. Анна точно такой же маникюр носила, и когда отец возмутился странной модой, объяснила:
– Это фэн-шуй, папа. Чтобы деньги водились.
Деньги у них в доме всегда были в нужном количестве – Антонина Фёдоровна вела семейную бухгалтерию так же чётко, как заводскую. Детство супруге досталось тоже не из лёгких – отец-военный не видел разницы между солдатами и собственными малолетними детьми. Антонина в детстве имела два платья – зимнее и летнее, которое по потребности использовали ещё и как нарядное. Платья донашивала за старшей сестрой – так же как банты, школьный портфель и мешок для сменки. Каждый вечер, как сделает уроки, помогала матери – то гречу перебирала, то яблоки для компота резала, то простыни подрубала. Обо всём этом супруга подробно рассказывала дочерям, чтобы ценили то, что имеют. И Павел Петрович, где надо, добавлял от себя подробности. А чаще где не надо, как считала Антонина Фёдоровна.
Девочки росли послушные, но между собой не дружили, даже в раннем детстве. Александра восприняла рождение Анны как наказание – она думала, мама с папой были ею недовольны, вот и решили завести другую девочку. Что с ней им, вроде как, больше повезёт.
Сейчас-то Павел Петрович понимал, где они сделали ошибку – но с той станции поезд давно уехал, да и саму станцию уже не разыщешь. Им бы тогда ласку проявить к старшей, объяснить ей: маленькая ни на что не покушается, родители не перестанут любить большую. Но что сам он, что супруга не приучены были вести с детьми задушевные разговоры – не принято было. Детей тогда вроде как всерьёз никто не воспринимал, это сейчас все как с ума посходили. Только и слышно – детям нужно внимание, детьми нужно заниматься. А результат – обратный. Романов за долгие годы на руководящей должности привык держать ориентир на результат – итоги соцсоревнования, выход продукции и так далее. Психологические нюни были не для него, но теперь, на пенсии, ему пришлось столкнуться с ними лицом, как говорят, к лицу.
Павел Петрович жевал сыр, даже не подумав поблагодарить за помощь девушку с разноцветными ногтями – кивнул, да и хватит. Слово «спасибо» у директоров не в ходу. Съел курицу, подчистил соус ледяным кусочком хлеба – как из морозилки, честное слово!
Раньше-то он летал в бизнес-классе. Ещё в позапрошлом году.
Взял у стюардессочки чай с лимоном, размешал сахар пластмассовой ложкой.
Сегодня он увидит дочериного жениха – а завтра поведет Александру под венец. Если он у них будет там, конечно, этот венец.
Романов с трудом представлял себе, на что походит французская свадьба. Вот у Анны было торжество – любо-дорого вспомнить! Конечно, они с матерью разорились, выкладывая денежки на лимузин, карету, артистов из Москвы, зато потом разглядывали фотографии – насмотреться не могли! (Даже забыли о плохой примете, что младшая первой замуж выскочила).
Одно только портило снимки – жених.
Павел Петрович недолюбливал зятя Валерку, и не понимал, почему Анна его выбрала – на вид пельмень недоваренный, характер склочный, да и зарабатывает меньше дочкиного. Вот и внуки, наверное, в него пошли, – ни в Игнате, ни, тем более, в Насте дед не видел ничего своёго, или хотя бы супругиного.
Игнат – вертлявый рыжий двоечник, – целыми днями лупился в компьютерные игры, какие уж там шахматы! Только придёт из школы, бахнет ранцем (который теперь стали называть «рюкзаком») в коридоре – и тут же несется к компьютеру. Павел Петрович, когда это при нём случалось, вмешивался. Запрещал приближаться к компьютеру, однажды выдернул проводки, а парень – в рёв:
– Ты что, дед, с ума сошёл? Я семь уровней прошел!
Ну, Павел Петрович и не выдержал. Наподдал по заднице. Попробовал бы он в своём детстве так с дедом поговорить – а тот суровый мужик был, кузнец – тут же получил бы по первое число, какой уж там седьмой уровень.
На вопли Игната прибежала Анна, в руках – плоский компьютер, как книжка. Планшет называется. И дочь, и зять бродят по дому с этими планшетами, фильмы смотрят. Анна объясняла, это чтобы время зря не тратить. Идет Валерка по квартире, а у него в руках кто-то стреляет и матерится. А навстречу – Анна, у той другое кино – с нежностями и голой задницей во весь экран. Счастливый брак! Надо было им с матерью подумать, прежде чем кошелиться на богатую свадьбу…
Так вот, Игнат ревёт, задыхается. К матери бросается за справедливостью – как в суд! Анна рассердилась, аж вскраснелась вся:
– У тебя в подчинении столько людей было, а ты с пятиклассником справиться не можешь?
Сердце Романова грустно сжалось – дочь ткнула в него этими словами, как ножом. Он ведь, действительно, руководил огромным коллективом, и с каждым умел найти общий язык. Нигде этому не учат – то есть, сейчас-то и этому учат, и другому всякому (на днях Павел Петрович видел в городе рекламную растяжку с красными буквами – «Учим говорить «Нет!»), но в его-то время никаких таких курсов для руководителей не было. Всё постигал на личном опыте – ошибался, конечно, но в целом, поступал верно. Никто бы на заводе не сказал, что Романов несправедлив, как руководитель.
А тут, смотрите, попало! Хотя, если призадуматься, что такого? Отец Павла тоже лупил в своё время – не часто, за дело. Так ведь он-то на отца такую варежку не разевал.
В общем, с Игнатом у них не особенно ладилось – только перед праздниками парнишка добрел, выклянчивая подарки. Всё какие-то игры с жестокостями ему подавай, да телефоны дорогущие. Однажды Павел Петрович купил к Новому году настольный хоккей, но его, кажется, даже и не распаковали, хотя с того нового года ещё три набежало. Так и валяется коробка где-то на балконе.
Внучка Настя тоже не слишком льнула к деду – её с малолетства таскали по конкурсам красоты для девочек, вот она и вела себя со всеми как взрослая женщина. Романова оторопь брала, когда Анна хвалилась Настиными фотографиями – семилетний ребёнок размалёван, как шалава подзаборная! Бальное платье, прозрачные перчатки, на голове – корона, с ушей длинные серьги свисают… И взгляд, главное, такой недетский – расчётливый, как у потаскухи. И поза – руки в боки, бедро вперед. Тьфу, смотреть тошно!
Анна обижалась:
– Ты, папа, совсем отстал от времени. Разве плохо, что девочка с детства будет уметь следить за собой, что не будет распустёхой, как…
Споткнулась.
– Как мать? – спросил Романов. Сердце в груди тяжело заворочалось, как будто искало выход из грудной клетки.
– Я не то хотела сказать, – начала оправдываться Анна. – Но мама ведь, правда, не уделяла особого внимания моей внешности. Я даже косы заплетать не умела – мне учительница в школе показала и корзиночку, и кральки…
– Сама ты кралька! Она вам жизнь подарила, а ты такие слова говоришь, бесстыжая!
Крепко они в тот раз поругались, но уже через день дочь позвонила – извинялась, плакала. В том же разговоре попросила денег на поездку в Турцию – Настя прошла в какой-то финал детского конкурса красоты, но дорога была за свой счёт, а у Анны – долги, кредиты, Валерка, которого со всех работ гнали, как таракана…
Романов оплатил поездку, но корону Насте выиграть не удалось. Было большое расстройство, Анна говорила, что это всё козни организаторов – какая-то пробивная мамашка занесла деньги.
Павел Петрович только раз дал себя заманить на один такой конкурс – во Дворце молодежи. У них были места в первом ряду, и Анна шёпотом на ухо попросила отца говорить тише – рядом с ними сидели главные враги счастливого Настиного детства, родители Лизы Симоновой. Эта Лиза в итоге и получила корону победительницы – со сцены отправляла воздушные поцелуи в зал не хуже чем Лайма Вайкуле. Настя плакала во весь голос, Анна сжимала кулаки, а Романов вспотел от жалости к ним обеим, от своего бессилия помочь…
Мама Лизы Симоновой – высокая и толстая, похожая на динозавра из детской энциклопедии, поминутно поправляла очки в розовой оправе – как будто они мешали ей хорошенько разглядеть ликующую дочь. Отец – смуглый, примятый брюнет – громко аплодировал и кричал, как в заграничном фильме:
– Это моя дочь! Это моя дочь!
Больше Романов никогда не совершал такой ошибки – сколько ни звала его Анна, он каждый раз придумывал причину отказаться. Даже на соревнования по гимнастике не ходил – больно было за Настю, которая вечно оказывалась даже не на вторых, а на десятых ролях.
Зря он это вспоминает… Врач из кардиоцентра когда ещё сказал – вы поменьше думайте о плохом, Павел Петрович. Жизнь, она ведь одинаково несчастная у всех. Радуйтесь моменту – улыбнулся вам ребёнок, уже хорошо. Птичка запела – еще лучше. Солнышко выглянуло – совсем славно!
Но как-то не складывалось у него в последнее время с детскими улыбками, да и погода стояла мрачная, даром что апрель, да и вместо птичьего щебета за окнами в квартире звучал вороний грай.
Романов откинул спинку кресла (сзади недовольно ойкнули) – и задремал. Проснулся, когда пилот объявил посадку – «Мы прибываем в аэропорт Шарль де Голля города Парижа!»
Земля
Романов редко путешествовал в одиночестве – да он и вообще редко путешествовал, чаще ездил в командировки, или по обмену опытом. Санаториев не признавал, отправлял туда всё больше Антонину Фёдоровну – жаль, не помогли ей те санатории. Рано она ушла, и так тоскливо было без неё Павлу Петровичу, что обычными словами не объяснишь, а необычных он не знал. Тут ведь дело не в любви, и не в сексе этом, о котором теперь столько разговоров по телевизору – дело в том, что старые супруги после долгой совместной жизни как бы срастаются в одного человека. И когда одна часть этого человека умирает, вторая мучается не только от боли, но ещё и от пустоты, нехватки того, к чему успел привыкнуть.
Вот почему Романов позволил секретарше Люсе переехать к нему в квартиру. Единственный способ для осиротевшей половины не уйти следом за умершим супругом – начать срастаться с другим человеком. С Люсей у них был давний приятный роман – Романов не считал, что изменяет супруге, потому что Антонина Фёдоровна давно отменила интимные отношения – без слов объяснила, что считает себя для этого слишком старой. Было ей, к слову сказать, тогда под сорок – как теперь Александре.
Секретарша Люся пришла на завод совсем ещё молодой девушкой, между работой успела выйти замуж и развестись. Детей у неё не было, а вот проницательности – хоть ложкой ешь. Мужскую печаль в глазах директора она прочитала раньше всех – и тут же впустила его к себе в норку. Ни на что большее Люся не претендовала, Романов считал, что ей, действительно, хватает вечернего часа на диванчике и серёжек в день Восьмого марта.
О себе Люся говорила – я секретарь от Бога. Один её взгляд – и толпа посетителей отступает из приёмной. Ни разу за эти годы – а она проработала с Романовым почти двадцать лет – не забыла ни об одном звонке, ни об одной встрече. Знала, кому улыбнуться, кого – поставить на место, где сказать, где промолчать. Печатала, как из пулемёта, блузки носила белоснежные, причёсана не хуже Гурченко, туфельки на острых каблучках…
Продвигаясь в очереди на паспортный контроль, Романов с грустью вспоминал ту, прежнюю Люсю. Она исчезла, лишь только секретарша превратилась в директоршу – и переехала в просторную квартиру на улице маршала Жукова. В квартире всё оставалось таким, как было при Антонине Фёдоровне – мебель, постельное бельё, цветы на подоконниках… К цветам супруга относилась трепетно, переживала за каждую фиалку, как за близкого родственника. А как радовалась блёклым цветочкам! Ни один букет, которыми Антонина Фёдоровна не была обделена как при жизни, так и после смерти, не вызывал в ней такой нежности. Она и в юности, вспоминал теперь Романов, пыталась выращивать в их первом жилье – общежитской комнате – какие-то традесканции, что ли? Прикалывала вьющиеся ветки к обоям швейными булавками, что-то без конца рыхлила, пересаживала, поливала…
– Я так понимаю, этот огород вам без нужды? – спросила Люся чуть ли не в первый вечер, как перебралась к Романову. Она по-прежнему была с ним на вы и по имени-отчеству. – Давайте я отдам цветы соседке с первого этажа, мы с ней уже познакомились.
Романов привык к зеленым зарослям на подоконниках – в последние годы с ними неплохо управлялась домработница. Даже фиалки иногда покрывались бледными цветочками, и тот странный куст, название которого директор так и не выучил, выпускал новые сочные стрелы, похожие на перья. Но Люся настаивала – у неё была аллергия на растения.
– А у меня на эту женщину – аллергия! – возмущалась Анна. Дочери в кои-то веки проявили единодушие – Александра писала из Парижа рассерженные мейлы, не догадываясь о том, что первой их читает ненавистная Люся (Романов так и не освоил компьютер), а её младшая сестра, дня не проходило, высказывала отцу претензии. Как он мог после мамы связаться с такой … с такой…
– С какой? – устало переспрашивал отец, и Анна умолкала, не решаясь вымолвить обидное слово. Впрочем, подходящее слово нашлось впоследствии и без её стараний. Двадцать лет Люся трамбовала в себе обиды и сдерживала чувства, но как только получила, что желала – тут же превратилась в другого человека. В безжалостную жадную дрянь.
…– Цель визита во Францию? – спросил у Романова пограничник, сидящий в стеклянной будке. Директор ни слова не разобрал, но, к счастью, в очереди за ним стояла всё та же отзывчивая девушка с разноцветным маникюром. Тут же подскочила, забулькала по-французски.
– Вы отдыхать приехали? – спросила она Романова.
– Нет, я к дочери. На свадьбу.
– Да, свадьба – это не отдых, – улыбнулась девушка.
Пограничник поставил в паспорте отметку, и Романов вошёл на территорию Франции, вновь забыв сказать попутчице «спасибо».
… Следы евроремонта, который выжал из Антонины Фёдоровны все её силы, а потом и забрал жизнь, испарились, как толпа посетителей в приёмной к вечеру. Люся в считанные месяцы превратила квартиру Романова в нечто похожее на платную больницу. Павел Петрович однажды провёл в такой две недели, и до сих пор боялся, что умрёт не у себя дома, среди родных вещей, а в чужой, стерильно-белой палате. Теперь никаких сомнений – точно так всё и будет, даже если смерть явится за ним по домашнему адресу. Мягкие кресла и ковровые покрытия исчезли, а их место заняли конструкции из кожи и стальных трубок, полы с подогревом и освещение, которое автоматически включалось, реагируя на появление человека. Романов не счесть сколько раз пугался, когда лампа загоралась как сама по себе – а Люся ликовала: хай-тек! Наконец, можно людей в гости позвать!
Люди, действительно, приходили – незнакомые, молодые. Люсе-то ещё и пятидесяти нет, а выглядит того моложе. Романов отчаянно томился, высиживая за общим столом, накрытым, к слову сказать, стараниями ближайшей кулинарии. Как бы кулинария не старалась, в блюдах всё равно сквозил привкус горелых кастрюль и дешёвого масла. Люся готовить не умела, а домработница у Романовых на кухню допускалась только с уборкой. Антонина Фёдоровна всё делала сама – и холодец, и суп с клёцками, и торт «Наташа». Лучше всего у неё получались пельмени с секретом. Секрет заключался не только в том, что один из пельменей обязательно делался с начинкой из теста, утыканного чёрным перцем – а, прежде всего, в том, что блюдо это Антонина Фёдоровна затевала только в тех случаях, когда была недовольна мужем. Блины, к примеру, требовали хорошего и ровного настроения – иначе попросту не получались, а вот пельмени, наоборот, помогали душе выправиться. Супруга Павла Петровича никогда не выясняла с ним отношений – вместо этого она уходила на кухню лепить пельмени, да не свердловские «ушки», а орские полумесяцы. Антонина Фёдоровна выкладывала один пельмень за другим на громадную, бабкину ещё разделочную доску, и, наблюдая за тем, как растет съедобное войско, чувствовала, что тревога и недовольство покидают её с каждым новым полумесяцем, занявшим место в строю.
Люсе кулинарная психотерапия была неведома – и она с удовольствием выясняла отношения с Романовым, наказывая его за долгие годы своего молчаливого послушания. Утром бросившая службу секретарша крепко спала, днём – носилась по магазинам, вечером принимала агентов, продающих дорогие пылесосы или косметику (с Люсиной помощью они делали недельную выручку в полчаса), а ночью – ссорилась с Павлом Петровичем.
Особенно она донимала его в поездках – приходилось возить её летом на море, зимой – на горнолыжные курорты (при том, что на лыжах не катались ни сама Люся, ни, тем более, директор), осенью и весной – в Европу… Романов терпеть не мог гостиниц, на море ему было жарко, на снежной горе – холодно, европейские магазины его интересовали примерно так же, как музеи. Он ездил туда только ради Люси, и она, худо-бедно понимавшая по-английски, проводила его через границы, таможни и ещё какие-то трансферы, что ли. Отправляясь в Париж в одиночестве, Романов немного побаивался – справится ли? Александра обещала встретить его в аэропорту – а вдруг забудет, время перепутает? Мало у неё других забот перед свадьбой…
В этих неприятных раздумьях Павел Петрович вместе с другими пассажирами перешёл в зал, где выдавали багаж. Девушка с разноцветными ногтями, успевшая его обогнать, махала откуда-то издалека. Действительно – их рейс уже выгрузили, и чемоданчик директора, купленный, кстати, всё той же ненасытной Люсей, передвигался по ленте гордый, как победитель.
– Спасибо, – непонятно кому сказал Романов, снимая чемоданчик с ленты.
Если он и был за что-то благодарен новым хозяевам завода, скоропостижно выславшим красного директора на пенсию, так это за то, что практически на следующий же день после этого от него ушла Люся.
Он, конечно, подозревал, что у неё кто-то есть – может, из пылесосов, может, из косметики, а может – из тех пятидесятилетних юношей, что бывали у них в гостях каждую субботу. Цену себе Люся знала, если и завышала – то незначительно, и после того, как Романов потерял большую зарплату, служебный автомобиль с водителем, а главное – статус, его собственные котировки тут же обвалились. Люся не плакала, вела себя деловито. Объяснила, что мебель забирать не будет, – только личные вещи.
– Сколько сил я сюда вложила! – вздохнула она на прощанье, поглаживая косяк в коридоре. И потом, как будто вспомнив о чём-то несделанном, сказала Романову:
– Я ведь вам, Павел Петрович, лучшие свои годы отдала.
С таким лицом сказала, как будто он их должен ей теперь вернуть.
Романов и так-то был пришиблен известием о пенсии – он, конечно, подозревал, что его могут сместить, но не думал, что это случится так стремительно. Люсин исход, занявший три дня и около пяти контейнеров, тоже поначалу выглядел трагедией – директор привык к ней, они, как ему казалось, начали срастаться, но оставшись в одиночестве, в этой страшной квартире с хромированной мебелью и пустыми белыми стенами, почувствовал вдруг давно забытую лёгкую радость… Как будто Антонина Фёдоровна кричит с кухни – Паш, ну сколько можно звать? Пельмени остывают, кто ж их ест холодными? Как будто из маленькой комнаты, где выросла Анна, доносятся вопли мультфильмов, а из гостиной – смех маленькой Александры.
Павел Петрович уснул в эту ночь крепко и счастливо – а наутро попросил домработницу купить каких-нибудь комнатных цветов.
– Я своих вам пересажу! – обещала счастливая домработница. – Мне ещё Антонина Фёдоровна давала фиалки, знаете, как разрослись?
Она, в самом деле, принесла несколько горшочков, из которых торчали робкие ворсистые листики. Вскоре фиалки освоились, и одна из них, бледно-голубая, перед самым отъездом директора, готовилась расцвести. Стыдно признать, но Романов жалел, что увидит цветок только через три дня.
А вот другой свой цветочек – Александру – он увидел сразу, как только вышел в зал прилёта. Она махала ему правой рукой, а левой обнимала за талию невысокого и какого-то кривоватого мужчинку, похожего не столько на Алена Делона, сколько на Луи де Фюнеса в молодости. Все свои познания о французах директор, как и большая часть советских людей, вынес из комедийного галльского кинематографа. Делон, Депардье, Де опять же Фюнес, Пьер Ришар и Бриджит Бардо.
Романов так загляделся на будущего зятя, что запнулся – и чуть не упал на ровном месте. Тьфу ты! Сам как Луи де Фюнес.
– Как долетел, папа? Всё нормально прошло? А что, Анька так и не собралась?
Александра до последнего момента надеялась, что сестра передумает – ведь она-то была на её дебильной свадьбе с белыми голубями и лимузином! Хотя бы из чувства справедливости можно было приехать?
– Она приболела, Сашенька, – соврал Павел Петрович, мучительно жалея старшую – в ней будто свет погас, а ведь только что сияла как праздничный торт, и даже не выглядела на свой возраст!
Будущий зять что-то залопотал не по-нашему, и Александра спохватилась:
– Конечно! Папа, это Николя. Николя, сэ мон папа. Знакомьтесь!
Романов, конечно, знал, что дочкин жених по-русски ни бум-бум, но только сейчас до него дошло, что это означает на самом деле. Ни поговорить толком, ни выпить…
Вот и Валерка, младший зять, тоже был тот ещё пивун – директор каждый раз цыкал языком, когда зять, как женщина, прикрывал рюмку ладошкой. Романов-то – из старой гвардии: при виде бутылки с водкой в обморок не падал. И с народом говорил на одном языке. Встречи с рабочими, совещания, визит начальства, иностранные делегации – директор всюду держал марку. Знал, где пошутить, где тост сказать, а где – прикрикнуть и матюгнуться. Люди его уважали, не то, что теперь. Хоть бы кто с завода позвонил Романову в последний год – ни одна собака не почесалась. А у него на душе саднило от привычного беспокойства – как производственный процесс, есть ли заказы?