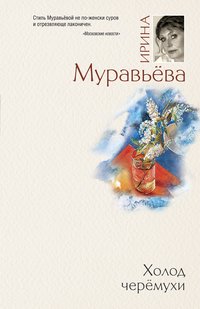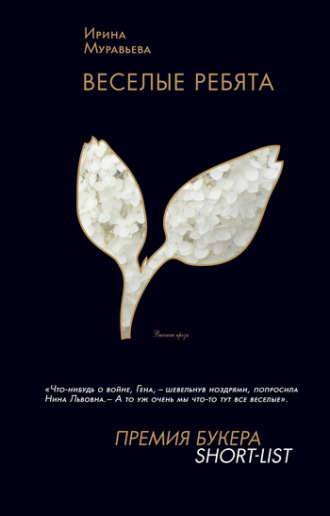
Полная версия
Веселые ребята
– Вот мы и пытаемся выяснить, – язвительно сказала Людмила Евгеньевна. – Вот и вас мы для этого пригласили! Чтобы вы в присутствии всего коллектива расспросили ее, которая без всякого стыда опозорила имя комсомолки!
– Ты тут что наделала, я тебе говорю! – Мать схватилась за голову и покачнулась. – Мы с отцом работаем, дней не видим, ночей не спим! А ты тут что наделала! Говори, я последний раз спрашиваю!
– Фира, – забормотал отец Фейгензон, – пусть тебе сперва объяснят, а то, может, и зря весь базар, потому что мы же ничего и не знаем толком…
– Ты! – закричала мать. – Ты! Чтобы ты молчал мне, чтобы не пикнул! Чтобы я дожила до седых волос, – она вцепилась в свой кудрявый седой висок и сильно дернула, – и чтобы мою дочь вот так вот увидеть!
Галина Аркадьевна, Нина Львовна, директор школы Людмила Евгеньевна и Зинаида Митрофановна, завуч, тут же почувствовали поддержку в лице этой большой и кудрявой женщины, которая имела право кричать еще громче, чем они, могла вообще проехаться рукой по физиономии своей глупой, бессловесной девки, и ничего бы ей за это не было, никто бы не осудил, никто бы не удивился, а девка бы от этого сжалась, совсем бы, бессовестная, почернела от страха, и поделом ей, поделом, потому что ни стыда, ничего, никаких идеалов, никто им не авторитет, и только гадость одна из них лезет, изо всех этих девок, в четырнадцать-то лет, а мы в их годы ничего такого и знать не знали, а только мечтали, чтобы фронту помочь, чтобы всё для победы…
– Ваша дочь вступила в половую близость, – сказала директор школы Людмила Евгеньевна, мать низкорослого сына Валерика, брошенная мужем за четыре дня до родов. – Ваша дочь жила интенсивной половой жизнью. – Отец Фейгензон сморщился, будто разжевал лимон. – И поскольку мы, педагоги, отвечаем за ее жизнь и здоровье, мы обязаны знать все обстоятельства этого безобразия, прежде чем вашим делом займутся соответствующие инстанции.
– Ты чтобы мне все сейчас рассказала, – плохо соображая, истерически закричала мать, – чтобы перед всеми здесь ничего не прятала!
– Я полагаю, что это недозволенные приемы, – пробормотал Роберт Яковлевич, – это все-таки так не делается, у ребенка есть все-таки какая-то гордость, мы не палачи…
– Я не палач! – моментально отреагировала Зинаида Митрофановна. – Но правильно говорит Людмила Евгеньевна: раз мы, педагоги, отвечаем жизнью, можно сказать, за ихнюю жизнь, так кто нам поручится, что у них у всех, – и она ужаснувшимися глазами обвела напряженные лица под слабым, еле живым, розоватым дождичком, – что у них, у каждого, не идет своя жизнь, так сказать, безобразная, может быть, даже и половая, а мы, которые всю свою жизнь в них вложили, мы не останемся, иначе выражаясь, в дураках! Вот об чем разговор, Роберт Яковлевич, а не об ваших пристрастиях!
– Ну, размечталась, – еле слышно пробормотал Орлов, – чтоб у каждого – половая…
– Юля, – забормотал отец Фейгензон и зашаркал ногами по траве, словно приглашая свою дочь на вальс, – ты, может быть, правду мама говорит, лучше бы уж рассказала. Если у тебя произошли, – он споткнулся на непростом слове, – такие отношения, то лучше ты уж скажи, а то видишь, какой компот…
Черная «Волга», все это время не подававшая никаких признаков жизни, вдруг плавно развернулась, описала небольшой круг и подкатила к самой линейке. Из нее вылезли двое мужчин и одна женщина с мощно выступавшим из-под легкого платья беременным животом.
– Вот сейчас все и станет ясно, – удовлетворенно рассерженной грудью выдохнула Зинаида Митрофановна, – вот уж товарищам из роно никто лапшу на голову не навесит…
Мужчины из роно резко отличались друг от друга. Один из них был весьма толстым, каким-то надутым, а другой худым до нездоровости. У надутого сильно выделялся большой темно-красный подбородок, словно его приклеили, а все остальное – лицо и шея – были обычного, бежеватого цвета. Глаза у него смотрели равнодушно и несколько даже мертво, словно душа давно уже ушла из надутого тела и теперь плавает совершенно самостоятельно неизвестно где, а надутый, ничего не заметив, продолжает жить так, будто с ним все в порядке и душа его никуда не девалась. Тонкий же, напротив, был таким слабым на вид и недокормленным, что сердобольная, слегка свихнувшаяся от любви к Чернецкой Марь Иванна почувствовала укол в сердце и неразборчиво пожалела, что он, недокормленный, вынужден, судя по всему, так тяжело и нервно работать. Приехавшая с ними женщина, которой предстояло в скором времени родить ребенка, чтобы через тринадцать лет его вот так же выставили на линейке под красным флагом, была смугла, цыганиста, губы имела вспухшие, зацелованные, а глаза голубые и такие прозрачные, такие беспутные глаза, что у мальчиков-комсомольцев пересохло во рту.
– Ну что, ребята? – хмуро сказал надутый. – Что же это у вас тут происходит? Разбираться будем.
– Учтите, – перебил его тонкий, – что на вас на всех лежит ответственность, что вы все отвечаете за поступок вашего товарища…
– Просто суд Линча какой-то, – в синий носовой платок прохрипел Роберт Яковлевич, – никуда не годится…
Но он не успел ничего сделать, ничем не успел помочь несчастной Фейгензон, которая за неделю до этого начала жить интенсивной, по словам директора Людмилы Евгеньевны, и безобразной, по словам Зинаиды Митрофановны, завуча, половой жизнью, потому что небо надо всеми собравшимися вдруг почернело, потом поседело, потом стало похожим на океан с высоко поднявшимися волнами, и оттуда, из океана, хлынул не просто дождь, а какой-то бешеный, безумный поток воды, словно на головы им опрокинулся водопад Ниагара, известный нескольким комсомольцам по фотографиям в «Огоньке», а Зинаиде Митрофановне и Галине Аркадьевне по популярной телепередаче «Клуб кинопутешествий». Дождь этот был вспыхивающего, почти белого цвета и такой холодный, что, казалось, еще немного – и превратится в снег. Мужчины из роно бросились к беременной, пытаясь укрыть ее от потоков, и толстый оттолкнул тонкого, а беременная с хохотом и воплями оттолкнула их обоих и побежала обратно к черной «Волге», сверкая по пузырящейся траве своими молочно-белыми, соблазнительными икрами. Все взрослые – включая фронтовика Николая Иваныча с мокрыми волосинками, вылезшими из каждой ноздри, – тут же потеряли неприступность и основательность, заметались, закрыв затылки ладонями, у директора Людмилы Евгеньевны бурые пряди прилипли к круглому черепу, так что открылись и оттопырились маленькие мясистые уши, а у Галины Аркадьевны вылупились большие твердые соски под заблестевшей и прилипшей ситцевой летней кофточкой. Дождь смыл их всех, и все они, как сухари, размоченные в кипятке, стали мягкими, раскричались, согнулись, утратили свои очертания и – скорее, скорее, забыв друг о друге, о развратной, испорченной, всех опозорившей Фейгензон, – побежали кто куда, гонимые инстинктом жизни и страхом смерти. А небо нависало все ниже и ниже, становилось все злее, все больше и больше лютой сверкающей воды извергало оно в своем отчаянии, догадавшись, что ни полуденное тепло, ни добродушные облака, ни золотистые радуги не помогут этим изуродованным, с оттопыренными ушами людям, и остается только одно: припугнуть их беспощадной грозой, огнем ее и потоками. На этом и закончился суд над Фейгензон.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.