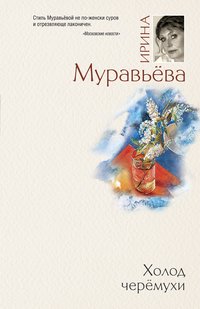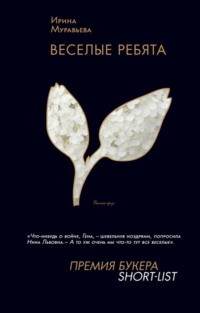Полная версия
Мы простимся на мосту
– Милый мой Федор Иваныч, – ласково и просто сказал живописец. – Езжайте отсюда быстрее и не возвращайтесь. А то они вас подомнут.
– Не думал, не гадал, – мрачно сказал Шаляпин. – Вот уж правду вам говорю. Как на духу. Что только бежать и останется… Как на духу!
– Куда вы сначала?
– Сначала в Берлин. Потом в Штаты.
– Я тут недавно «Братьев Карамазовых» прочитал, – усмехаясь, сказал Кустодиев. – Как он хотел Митю своего в Штаты отправить, не помните?
– Да я не читал! – с раздражением отозвался Шаляпин. – Ну его к чертям собачьим. Пророк называется… Всё он наврал. Народ-богоносец-то что вытворяет!
Через полчаса, расставшись с бледным от усталости живописцем, Шаляпин вышел на улицу, взял на руки мопса, спрятал его под шубу и зашагал по направлению к Московскому вокзалу. Никого уже не удивляли эти страшные, как страшны бывают скелеты в музее, улицы Петрограда. Люди, пробегающие по этим мертвым улицам, напоминали голодных мышей не только тем, как лихорадочно и темно блестели их испуганные глаза из-под надвинутых на лбы шапок и накрученных друг на друга заиндевевших платков, но и тем одинаковым для всех страхом, который объединял их, как форма объединяет солдат. Во всем была смерть: в облупившихся вывесках заколоченных магазинов, в темных окнах, в разбитых витринах, в самом этом снеге, летящем на землю, – была неподвижная, жадная смерть.
Тем более странным показался огромному в своей бобровой шубе, оттопыренной на груди разомлевшим под нею мопсом, Шаляпину цветочный магазин на самом подходе к вокзалу. Магазин этот был открыт, и внутри его, за мутным морозным стеклом, стояли букеты и вазы с цветами. Шаляпин зашел. В магазине, маленьком, но красиво и аккуратно прибранном, топилась железная печка, и стебли цветов были чуть красноватыми. У самого огня, вытянув из-под черной короткой юбки ноги в валенках и закутавшись в вязаную шаль, сидела молодая девушка, бледным лицом и волнистыми русыми волосами живо напомнившая Шаляпину русалку из одноименной и сто раз пропетой им оперы. Русалка посмотрела на вошедшего с удивлением и даже испугом. Шаляпин слегка улыбнулся.
– Неужто цветы еще кто покупает?
– А как же? – охрипшим простуженным голосом ответила русалка. – Всегда покупали и будут.
– Да, странно… – пробормотал он. – У людей платья не осталось переменить, а тут у вас розы…
Она вдруг покраснела так горячо, как краснеют только очень молодые люди с нежной и чувствительной кожей.
– Цветам-то что делать? Они ни при чем!
– Ну, дайте мне розу, – попросил Шаляпин.
– Одну? – испугалась русалка.
– Зачем же одну? Штук двенадцать.
– Пять тысяч букет. А если возьмете вчерашних – четыре.
– Нет, дайте мне свежих.
– Цветы покупают! – вдруг, словно бы вспомнив о чем-то, воскликнула она. – Ведь люди встречают друг друга… Им нужно!
Она произнесла это так страстно, с такой убежденностью, как будто и впрямь на вокзале встречают друг друга с букетами, будто, как прежде, бегут поезда, и на сиденьях вишневого цвета, как прежде, сидят аккуратные люди, а дети в матросках и бархатных куртках грызут шоколад, и кудрявые няньки платком вытирают их липкие пальцы, – она произнесла это так, что Шаляпин, весь день находившийся во взвинченном и раздраженном состоянии, приоткрыл рот от удивления и, когда она протянула ему красиво завернутый в бумагу букет, пожал ее тонкую, слабую руку повыше запястья.
По расписанию московский поезд отходил через полтора часа, но верить расписанию было нельзя, и вполне могло случиться, что из Петрограда не удастся уехать не только сегодня днем, но даже и ночью, а может, и утром. Те же самые люди, которые испуганными тенями, согнувшись от холода, пробегали по сверкающим белизной улицам города, теперь словно все собрались на вокзале. Шаляпин был почти уверен, что именно этого господина со злыми глазами он видел вчера на Литейном, и эту старуху с котомкой, и девку, которая так же, как утром на Мойке, кусала кудрявую, жирную косу. Люди потеряли то, что раньше отличало их друг от друга, все стали похожими, сплющились, сжались, и, чувствуя это, но не понимая, какого еще унижения ждать, все стали сердитыми, захлопотали, как будто боясь, что иначе их просто в канавы сметет или снегом засыплет.
В помещении вокзала работал буфет, где ничего не было, кроме водки и морковного чаю. Буфетчик с угреватым лицом монотонно объяснял сгорбленному молодому человеку в продранной шубе, что завтра должны быть «пирожные с манкой». И тот кивал радостно и удивленно. За водкой, только что опять разрешенной к продаже, стояла угрюмая возбужденная очередь, состоящая из мужчин и женщин, которые не обращали никакого внимания на косо висевший плакатик со строчками из нового стихотворения Бедного:
Аль не видел ты приказа на стенеО пьяницах и о вине?Вино выливать велено,А пьяных – сколько ни будет увидено,Столько будет расстреляно.– Двери! Двери-то прикрывайте! – озлобленно крикнул буфетчик. – Всю залу мне выстудют!
В помещении вокзала было тепло от большого скопления человеческих тел и пахло дыханьем, тяжелым и грубым, и потом, и запахом мокрого снега.
Шаляпин со своим белым «свадебным» букетом и мопсом, мирно сопящим внутри его бобровой шубы, стоял перед буфетной стойкой и ловил на себе острые и озлобленные взгляды. Ему показалось странным, что его никто не узнает и, стало быть, слава, которая казалась ему прочной, как собственная рука с холеными ногтями, есть не что иное, как плод самолюбивого воображения, и он будет так же забыт, как и все, в безрадостном этом и скученном мире.
В залу, широко ступая по мокрому от растаявшего снега полу, вошла женщина с таким же, как у Шаляпина, «свадебным» букетом. Он усмехнулся, увидев, что кто-то еще здесь купил эти розы и выглядит так же нелепо, как он. Надо заметить, что Федор Иваныч был большим любителем женщин и к женской красоте относился с некоторым даже почтением, как к красоте хороших лошадей или к чистокровным породам собак. Он расстегнул шубу, вызвав этим недовольство пригревшегося мопса, и, усевшись за буфетной стойкой, спросил себе водки, не спуская при этом взгляда с вошедшей женщины. В том, что она была красавицей, сомневаться не приходилось, хотя красоту этого румяного лица сильно портило то, что она явно брезговала окружавшими ее людьми, их терпкими запахами, их выбившимися из-под шапок и платков сальными волосами и не скрывала того, что ей гадко находиться сейчас среди всего этого. Брезгливость, как все неизящные чувства, конечно, мешает любой красоте. На девушке была короткая шубка и круглая, такого же меха, боярская шапочка с наброшенным сверху пуховым платком, который она раздраженно откинула, как только вошла в эту залу с мороза. Она дождалась, пока подойдет ее очередь, и спросила у буфетчика стакан морковного чаю и рюмку водки, потом пристроилась на краешек деревянной лавки, спинка которой была вся испещрена похабными надписями, залпом опрокинула водку, закрыла глаза, глубоко задышала и принялась пить жидкую коричневую бурду, откусывая понемножку от куска завернутого в бумажку сахарина. Шаляпин удивлялся все больше. Подойти к ней с каким-то вопросом было неловко: он представил, как она, с этой брезгливостью на лице, может посмотреть на него, и внутренне весь покорежился.
Она допила чай и теперь сидела неподвижно, не обращая больше внимания на ругательства, слезы и крики, наполнившие перегретую большую комнату. Два бывших солдата в обмотках – у одного было отморожено ухо и, черное, как гриб, торчало теперь из-под шапки – встали с той лавки, на краешке которой она примостилась, и Шаляпин тут же подсел.
– Да я вас узнала, узнала! – с досадой сказала она и, вынув шпильку из пучка, свисавшего на шею из-под шапочки, зажала ее в губах, обеими руками подбирая рассыпавшиеся волосы и глядя на него исподлобья. – Уж вас не узнать! Вы ведь Федор Шаляпин.
– А вы кто, позвольте спросить?
– Я – Дина Ивановна Форгерер, актриса в театре.
– И муж ваш… – начал было Шаляпин. – Знакомое что-то мне имя…
– Муж тоже артист, – равнодушно сказала она. – Сейчас он играет в Берлине.
– Он выслан?
– Да нет, он нисколько не выслан. Контракт предложили, и он там остался.
– А вы почему здесь? – прямо спросил он, поражаясь никогда не виденному им прежде темно-бронзовому с красным и золотистым цвету ее мокрых от растаявшего снега волос. – Вы, что, развелись?
– Мы не развелись, – ответила она. – Мы просто расстались. Вернее, не просто. Он очень не хотел меня отпускать.
– Но вы-то… Зачем вы вернулись?
– Федор Иваныч, – сказала актриса Форгерер и опять посмотрела на него исподлобья. – Вы мне слишком уж много вопросов задаете. Если бы не то, что вы такая знаменитость, я бы, знаете, и совсем не стала вам отвечать.
– Простите меня, ради Бога! – воскликнул Шаляпин. – Но все-таки странно: на этом вокзале, среди этой мерзости, хаоса, грязи, вдруг встретить такую, как вы… Ради Бога, простите!
– Пойдемте отсюда, – вдруг попросила она и набросила на голову платок. – Здесь нечем дышать.
Они вышли и медленно пошли по платформе, по-прежнему полной какого-то люда, темной и кисловато пахнущей промороженными рельсами.
– Куда вы едете, Дина Ивановна? В Москву?
– Я думала, что сегодня встречу его, – не отвечая на вопрос, сказала она и остановилась. – Но поезд пришел, а я никого не встретила. Он не приехал. Вот так. Не приехал, и всё.
Она словно бы забыла, что рядом идет человек, который слышит то, что она произносит, ей не было никакого дела до этого человека. Шаляпину стало неловко. Эта молодая женщина с поразительной внешностью не могла стать дорожным приключением: подобно тому, как чужой виноградник, просвечивая сквозь колючую изгородь своими тяжелыми гроздьями, дразнит и лишь раздражает голодного, так и ее красота раздражала, дразнила, но не подавала и малейшей надежды.
– Но вы ведь не мужа встречали, конечно? – спросил он, сердясь на самого себя за эту неловкость.
Состав подошел, их ударило паром. Они отступили.
– Пойдемте обратно, – сказала она. – А то еще поезд пропустим. Вы в первом, наверное, едете?
– Да, в первом, – ответил Шаляпин. – Хотя в этой неразберихе…
– И я, разумеется, в первом. А ведь никудышняя из меня Анна Каренина! – вдруг засмеялась Дина Ивановна. – Напрасно я это затеяла.
Она отбросила свой букет далеко в сторону и, не оглядываясь, быстро пошла назад.
Проводник, немолодой, с выпуклыми, пестрыми, как пчела, глазами, принес два стакана кипятка, зажег золотистую тусклую лампу и, получив от Шаляпина на чай, закрыл за собою дверь, пожелав «товарищам» доброй ночи.
– Вы знаете, Федор Иваныч, – хмельным и слишком бодрым голосом сказала Дина, прижимая оттопыренные губы к оконному стеклу и дуя сквозь них. – Вы, наверное, думаете, что раз вы артист, вы все понимаете, правда? А это не так. Я знаю, что все вы – артисты и всякие там музыканты, художники, даже писатели – нисколько не умные люди.
Она оторвала губы от стекла и улыбнулась ему через плечо мягкой и веселой улыбкой, никак не соответствующей ее хмельному и громкому голосу.
– Мы все совсем разные люди, – удивляясь ее поведению, сдержанно ответил Шаляпин. – Есть глупые, есть поумнее. При чем здесь – артист и писатель? Уж кто кем родился…
– Артисты и писатели, наверное, думают, что самое главное – это любовь между мужчиной и женщиной, поэтому они все время пишут и сочиняют только о любви. А это вранье. Ох, вранье! Я-то знаю…
И снова приникла к стеклу.
– Вы словно истерзаны, Дина Ивановна, – пробормотал Шаляпин.
– При чем здесь «истерзана»!.. Кто не истерзан? Я мужа-то бросила, кстати. Взяла да и бросила сразу после нашего медового месяца, вернулась к сестре… И вот ведь я знаю, что больше никогда не увижу его, а ничуть не переживаю. Меня даже совесть не мучает! Что вы молчите?
Она отлепила лицо от стекла: губы ее были пухлыми, едва розоватыми в полутьме. Шаляпин вдруг понял, что она совсем молода: не старше двадцати.
– Как вы думаете, – быстро спросила она, – ведь мы все погибнем?
– Почему погибнем? – Шаляпин сердито посмотрел на нее. – Первая жена родила мне девятерых детей, один сынок помер, Илюша…
Дина Ивановна торопливо перекрестилась.
– У меня племянник тоже Илюша, – испуганно сказала она. – Дрожим все над ним… Страшно любим!
– Вторая жена моя, Маша, троих родила, – продолжал Шаляпин. – Все дочки, красавицы. Если я так буду думать, как вы сказали, что, мол, все погибнем и все давно к черту летит, зачем же я этих детей нарожал?
– Да, да! – откликнулась она. – А в моей семье все наоборот. Мама родила Тату от своего первого мужа, потом полюбила моего отца и бросила этого мужа, и дочку свою тоже бросила. Потом уже я родилась, за границей. С Татой мы первый раз увиделись, когда мне четырнадцать было, а до этого мама о ней почти и не рассказывала… Странно, правда? Этого я ей до сих пор простить не могу. Потом умер мой отец. Это было очень страшно, никогда не забуду! У него была немецкая фамилия, его дед был немцем, и к нам в квартиру ворвались пьяные мерзавцы. И все разгромили, разбили, разграбили. Тогда ведь война началась, немцев все не любили. И папочка умер, сердце остановилось. Он так и упал, в коридоре. А мне тогда было пятнадцать.
– Владыка Небесный! – сказал Шаляпин и медленно, картинно перекрестился, словно на сцене. – Вам много пришлось пережить.
– Мы переехали к маминому первому мужу – он маму мою очень сильно любил, сейчас тоже любит, – и начали жить уже вместе, семьей. Потом моя мама уехала. Ей дом нужно было продать, он в Финляндии, но тут революция… – Она прикусила губу. – И мама пока еще там. Не вернулась.
Шаляпин поразился соединению детского, наивного, простодушного с каким-то упрямством и даже жестокостью на этом красивом румяном лице.
– Вы молоды, Дина Ивановна, – помолчав, сказал он. – А многого, верно, хлебнули. Досталось вам, вижу.
– Кому? Мне досталось? Ах, что вы, нисколько! Сестре вот досталось, да и достается. А я – что? Как с гуся вода!
– Кого вы сегодня встречали?
– Федор Иваныч! – надменно отрезала она. – От того, что мы с вами сейчас так разговариваем, вовсе не следует, что я вам должна столько сразу открыть. Я, может быть, выпила лишнего, очень замерзла. А вы подумали, что я вам всю душу сейчас так и выложу? Вы, верно, романов начитались, Федор Иваныч, или уж очень много с разными артистами водитесь. У них это принято. А я, хоть и играю на сцене, но я другая, Федор Иванович! Мы с мамой и Татой совсем не такие! Мы скрытные, вот что.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.