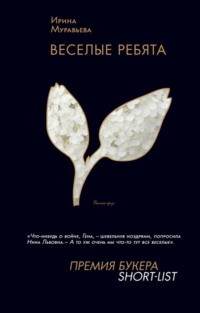Полная версия
Холод черемухи
Таня Лотосова не видела Александра Сергеевича и не знала, что с ним. Когда она думала о нём, с ней происходило то, что происходит с человеком, у которого резко поднимается температура: сухой сильный жар во всём теле и дикий стук сердца, не только в груди, а везде, даже в пальцах. Гуляя за руку с сыном, закутанным в беличью шубку и сверху обвязанным тёплым пуховым платком (стояли морозы!), она боялась, что Александр Сергеевич вдруг может выйти из какого-нибудь дома ей навстречу, или догнать её в заснеженной аллее сквера, или окликнуть, когда она, опустившись перед Илюшей на корточки, поправляет на нём платок и шапку.
Если бы хоть кто-то, хотя бы один человек на земле, знал, как он ей нужен! Хотя бы увидеть его! Но нельзя. Эта ночь, когда она, глядя прямо в небо, с содроганием выбрасывающее из черноты короткие и ветвистые вспышки молний, умолила Господа не отнимать у неё ребёнка, стояла в душе, словно крест на дороге. Нельзя идти дальше, не перекрестившись.
Сестра Дина совсем отдалилась от неё, и это тоже причиняло боль. Боли было слишком много, хотелось зарыться куда-нибудь, спрятаться. Куда? Только в тёплые кудри Илюши. Спаси, моё счастье, спаси свою маму.
– Мужа ей надо, – шептала няня, и мелкие слезы катились по её морщинистым щекам. – Куда же одной-то?
А Дина при этом цвела, расцветала. Когда, вернувшись, например, с катка, снимая перед зеркалом тёплые ботинки и стряхивая снег с волос и жакетки, она смотрела на себя в зеркало, глаза её приобретали особенно гордое и слегка презрительное выражение. Все мужчины на катке, начиная с отцов семейств, катавшихся для моциону, и кончая потными, радостными гимназистами, замечали её и, заметив, начинали вести себя странно: то падали, то спотыкались, то глупо краснели, то обгоняли её с одною-единственной целью: быстрей обернуться, увидеть лицо. И падали многие, и спотыкались. А дома всё было тоскливо, тревожно. Все, кроме Илюши, вызывали досаду, удерживая которую Дина быстро опускала глаза, чтобы не взорваться. С матерью она почти не разговаривала, а когда та сказала, что не одобряет её желания поступить на сцену, легко заявила, что съедет с квартиры и будет снимать себе комнату. Мама промолчала.
Два года назад актриса Малого театра Одетта Алексеевна Матвеева открыла драматическую школу, которая занимала этаж большого дома Фабрициуса на Арбатской площади. В школу приглашались молодые люди от восемнадцати до двадцати восьми лет. Дина Зандер была принята.
Одетта Алексеевна отнеслась к её сценическому дарованию весьма сдержанно.
– Вам, милая, трудно играть других людей, вы не готовы к тому, чтобы отказываться от себя. А в театре нельзя быть эгоистами, театр задуман как щедрость, отдача.
Гордая Дина плакала в подушку и утром выходила к чаю с чёрными кругами под глазами. Ей нужно было стать первой в этой проклятой драматической школе, где маленькая худощавая женщина в круглых очках, у которой, однако, был собственный автомобиль с шофёром и молодой любовник, постоянно делала ей тихие, но строгие замечания.
– Вот вы – Катерина, – спокойно говорила Одетта Алексеевна, устало снимая очки и протирая их кружевным платочком. – Вы мужа не любите. Представьте себе, как вас пугает это открытие: вы не любите своего мужа. Ну! Я вас слушаю.
– Тиша! – громко и властно начинала Дина Зандер. – Голубчик мой, Тиша! Как же я без тебя?
Одетта Алексеевна делала отрицательное движение своей очень белой, как будто она только что обмакнула её в муку, маленькой рукой.
– Не нужно так громко. Вы его не любите и в глубине души только и мечтаете, когда он уедет. Потому что в овраге над Волгой вас ждёт другой человек. И к этому человеку вы сейчас побежите. Попробуйте снова.
Дина стискивала зубы и с ненавистью смотрела на неё.
– Хотите, я вам покажу? – снисходительно, словно и не замечала её сверкающих глаз, спрашивала Одетта Алексеевна. – Смотрите.
Она снимала очки и прижимала руки к груди. Лицо её становилось растерянным.
– Тиша! – негромко говорила она, глядя в пол. – Голубчик мой, Тиша! – В голосе Одетты Алексеевны проступали истерические нотки, но лицо не изменяло своего растерянного и недоверчивого выражения. – Как же я без тебя?
Дина вспыхивала от стыда:такого она не умела.
– Попробуйте дома, у зеркала, – надевая очки и вновь усаживаясь в кресло, роняла Матвеева. – Старайтесь забыть, что вы на сцене, вы в душном купеческом склепе. В глубокой и страшной провинции. Ну, приступайте!
Зимою 1917 года Дина познакомилась с Николаем Михайловичем Форгерером, полная фамилия которого была Форгерер фон Грейфертон.
В комнату вошёл высокий худощавый человек, при виде которого ученицы почувствовали волнение. Он не был красив, но в сильном лице его с большими чувственными губами и широким славянским носом, неожиданным для такой фамилии, была уверенность в том, что женщины всегда будут волноваться, когда он так входит. С порога обежав этими сразу же заблестевшими глазами учениц Одетты Алексеевны Матвеевой, которая при его появлении достала свой кружевной платочек и прижала его к губам, словно желая спрятать то ли насмешку, то ли счастливую улыбку, он шутливо поклонился им, тряхнув своей большой, с гладким и широким лбом, головой. Взгляд его остановился на Дине Зандер.
– Николай Михайлович согласился помочь мне в благородном старании сделать из вас драматических актрис, – так, словно она кого-то передразнивает, произнесла Одетта Алексеевна, и болезненная краска выступила на её щеках. – Он будет развивать в вас умение владеть своим телом на сцене, пластику движений и… – Она запнулась. – Да он вам и сам объяснит…
– Посмотрите на меня, – мягким и глубоким голосом попросил Николай Михайлович. – Кого вы видите? Вы видите пожилого и уставшего человека весьма некрасивой наружности, не так ли?
Ученицы покраснели и переглянулись.
– Да, так, – твёрдо и весело сказал Николай Михайлович. – А теперь я хочу обмануть вас. Я не хочу, чтобы вы видели некрасивого старика. Хочу, чтобы вы видели прекрасного, полного сил молодца.
Будущие драматические актрисы хихикнули. Николай Михайлович сделал какое-то резкое акробатическое движение, как будто бы снял с себя кожу, и ученицы увидели перед собою другого человека. Этот человек безжизненно опустил руки, полузакрыл глаза и принялся легко, почти не касаясь пола, отбивать чечётку. Лицо его становилось всё моложе и моложе, движения всё быстрее. Волосы упали на большой и широкий лоб, глаза стали ярко-зелёными, как у кошки. Одетта Алексеевна махнула рукой и вышла из комнаты. Чечётка остановилась.
– Бывали ли вы на Украйне? – слегка задыхаясь, спросил Николай Михайлович. – Хотите увидеть, как парубки пляшут? Глядите.
Он сбросил пиджак, оставшись в одной белой рубашке, упёр руки в боки, присел на корточки и быстро прошёлся вприсядку. Девушки ещё больше смутились и захлопали в ладоши. Им было неловко, что такой солидный господин разыгрывает перед ними целое представление.
– В каждом из нас, – надевая пиджак, тем же мягким и глубоким голосом сказал Николай Михайлович, – живёт по крайней мере шесть-семь разных человек. Академический театр в силу омертвелости своих форм не в состоянии вытащить из актера всё богатство его перевоплощений. Наше тело не догадывается о своих возможностях и оттого является своего рода клеткой, в которой томятся неизвестные звери. Вы догадываетесь, о чём я говорю?
– О чём? – вдруг громко спросила его Дина Зандер. – Какие звери?
– Это метафора, – улыбнулся Николай Михайлович и пристально посмотрел на неё. – Вы знаете, что такое метафора?
Дина ярко покраснела.
– У нас в гимназии русскую словесность преподавал Александр Данилыч Алфёров, – с вызовом сказала она.
– Тогда всё понятно, – кивнул он. – Не имею чести знать господина Алфёрова, но, судя по вашей горячности, вам этот предмет хорошо знаком.
Дина опустила голову и исподлобья посмотрела на него.
– Пантера, – сквозь зубы пробормотал Николай Михайлович, словно бы и не беспокоясь, что его могут услышать. – Итак, мои милые барышни, с завтрашнего дня мы с вами начинаем познавать истинный театр. Театр, возникший в глубокой древности, в пещерах первобытных людей, не боящихся обнажать свои инстинкты и передвигающихся по земле, как передвигаются животные, которым не мешает никакая одежда.
Глаза его опять остановились на Дине Зандер.
– И посему наши репетиции будут проходить в таких вот трико, – просто сказал Николай Михайлович и достал из портфеля чёрное подобие женского купальника. – Работать мы будем под музыку.
Одетта Алексеевна дожидалась его в своём кабинете, где топилась большая кафельная печь, хотя на улице было совсем не холодно.
– Я зябну всё время, – протянула Одетта Алексеевна, одной рукой снимая очки, а другую прикладывая к печным изразцам. – Никак не согреюсь.
– У вас холодные глаза, Оня, – низко и значительно произнёс Николай Михайлович. – От ваших глаз мне становится холодно.
– Не называйте меня Оней! – яростно прошипела Одетта Алексеевна. – У вас давным-давно нет на это никакого права!
– Привычка, – усмехнулся он. – Простите, не буду.
– Как вы легко согласились! – вспыхнула она. – Как вам это всё безразлично!
– Что – всё? – прищурился он.
– Всё, – прошептала Одетта Алексеевна, и слёзы полились по её лицу. – Всё!
– Ну, будет тебе, – устало сказал Николай Михайлович и большой, красиво вылепленной ладонью погладил её по щеке. – У нас был красивый чудесный роман, от которого остались великолепные воспоминания. Что Бога гневить? Ты, слава Богу, не одна, мальчик этот, говорят, тебя обожает, денег хватает. Вот школу открыла. На что тебе жаловаться?
– Николенька, – всхлипнула Одетта Алексеевна и, схватив его руку, вдруг поцеловала её. – Всё верно, что вы говорите, и всё неверно! Отчего же так душа болит, если всё хорошо? Я сегодня тебя чуть не ударила. Ей-богу, еле сдержалась, когда ты эту девицу так и раздел глазами! Ах, как ты подло устроен, как низко! Ну, признайся – ведь ты её уже из своих лап не выпустишь? Я, кстати, не знаю – теперь-то у тебя кто? Свято место пусто не бывает.
– Да никого… – отмахнулся Николай Михайлович. – Всё то же: сначала пылаю, а день, два и – пусто. Сглазили меня, Оня.
Одетта Алексеевна прижалась виском к его плечу и всхлипнула.
– Вот ты всё – театр, театр, новые формы… А я с тобой такому театру научилась!
– Иронии, Оня, побольше иронии! – весело оборвал её Николай Михайлович и осторожно высвободил своё плечо. – Пока люди не научатся пародировать самих себя, они так и будут несчастны. А вся наша жизнь – буффонада!
– Я никогда этого не пойму! – прошептала Одетта Алексеевна, закрыв глаза. – Почему же буффонада? Ведь если есть боль, если смерть? Что уж тут пародировать?
– Давай заключим с тобой, Оня, пари. На эту девицу. Ну, как её? Зандер? Ты утверждаешь, что красивая молодая женщина непременно должна глубоко переживать свои любовные отношения, платить, так сказать, сполна, так? А я тебе докажу, что если правильно повести дело, то и самая чувствительная из этих совсем ещё юных и свежих цыпляток сумеет, воспользовавшись тем запасом здорового цинизма, который есть в каждом из нас, пережить любой, самый бурный, роман как театральный спектакль.
– Но только не Зандер! – перебила его Одетта Алексеевна. – Там бешеный норов!
– Тем лучше, тем лучше, – присвистнул Николай Михайлович. – На что мы поспорим?
Одетта Алексеевна прищурила свои холодные близорукие глаза:
– На что? На «Абрау Дюрсо»! Ведь вы за здоровый цинизм?
– Да где же я шампанского раздобуду в военное время? Ты меня, Оня, просто под монастырь подводишь!
– Зачем вам шампанское? Ведь вы же уверены, что не проиграете? – насмешливо спросила она.
– Я, Оня, как наше Отечество: пру напролом, а что будет, не знаю!
Няня говорила, что у матери «тоска», а Дина совсем «взбеленилась». Алиса Юльевна плакала по ночам, боялась революции. Отец возвращался из госпиталя под утро и сразу валился спать. Иногда до Тани доносились обрывки родительских разговоров: мать была раздражена, отец терпелив, но измучен. Брат Оли Волчаниновой допился до белой горячки, и его чудом спасли, вынув из петли в чулане. На столе была обнаружена записка: «Больше не могу без света».
Зима внезапно закончилась, и облака, похожие на кудрявые овечьи головы, края у которых то были оранжево закрашены весенним солнцем, то, словно только что извлечённые из парного молока и неотжатые, тепло и волнисто светились, проплывали над Москвой, стараясь не задерживаться, боясь зацепиться за колокола, спешили, летели, как будто страшились, что этих родившихся в небе овечек убьют и замучают.
Весной начались перебои с продуктами. В усадебной оранжерее Кузьминок, которая кормила весь военный госпиталь огурцами и зелёным луком, отцу, как самому уважаемому из врачей, каждую неделю давали с собой в город большой пакет оранжерейной зелени и маленьких, кривых, пупырчатых огурцов. Алиса Юльевна, повязанная платком поверх шляпки, в чёрных очках, прячущих весенние ячмени на глазах, ездила за город на извозчике и возвращалась с купленной втридорога банкой сметаны. С ребёнка Илюши сдували пылинки.
Что-то совершалось в мире вокруг, вырастало прямо из-под земли с такою безжалостной чувственной силой, что город, казалось, дрожит от напора, и люди заметно бледнели, в их лицах появилось заносчивое и одновременно растерянное выражение, словно они понимали, что с каждой секундой приближаются к какому-то не ими принятому решению, что их уже крутит, ломает, корёжит, но делали вид, что ничуть не боятся.
Такого одиночества, как сейчас, Таня никогда не испытывала. Мама была дальше, чем даже тогда, когда Таня подрастала тут, на Плющихе, а мама со своим Иваном Андреевичем и новенькой дочкою Диной лежала в германских целительных ваннах, о Тане нисколько не думая. Теперь мама сидела в своей спальне, читала там что-то и, кажется, плакала. Почти каждый раз, проходя на кухню, Таня слышала доносящиеся из спальни тихие всхлипывания. Ей хотелось войти без всякого стука, обнять свою маму и тоже заплакать. Тогда она учащала шаги, чтобы не сделать этого. Отец, который, казалось, ни на что в доме почти не обращал внимания, однажды сказал между делом:
– Ты, может быть, думаешь, что гордость – это такая замечательная и редкая вещь? Совсем наоборот, совершенно! Это вещь – глупая, продиктованная раздутым представлением о собственной персоне, и больше ничего! Учти, пожалуйста: нельзя обидеть того, кто нехочет быть обиженным. Точно так же: нельзя и унизить, если человек знает, что его нельзяунизить. И унижение, и обида живут только внутри нас, а не привносятся извне, ты это запомни.
Таня, нагнув голову и краснея, посмотрела на него:
– Чем же это я гордая?
– Как – чем? Ты отлично знаешь, что оскорбила маму. Сорвалась на ней. И тебе уже самой не по себе, потому что душа у тебя хорошая. Я тебя вырастил, я знаю. Не спорь! Ты хорошая, добрая. Незлопамятная. Теперь ты бы и хотела помириться, но гордость мешает. Вот я тебе и попытался объяснить… И Дина такая же, только похуже.
– Гордая? – краснея, уточнила Таня.
– О да! До стервозности, – спокойно ответил отец. – Про таких людей говорят, что они ребёнка вместе с водой из корыта выплёскивают.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.