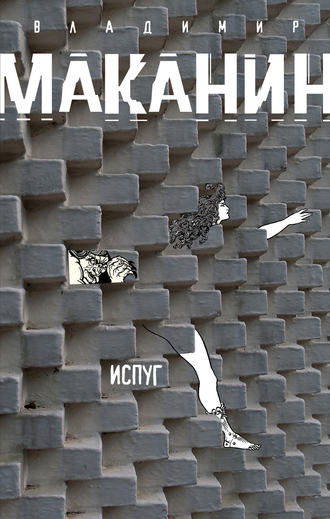
Полная версия
Испуг
Лидуся, угадав, тоже потянулась туда же и заскользила, гибко смещаясь молодым телом вместе со мной. Я хочу сказать, что, привстав, мы очень согласно держались вместе. А наново включив телевизор, согласно же сместились к постели и проделали путь назад. Все удачно.
И опять лежали в комнатной голубизне. (Вот только звук я не восстановил. Ей, она шепнула, хватит картинки.)
А они на картинке тоже времени не теряли: трудились! Они убеждали каждый каждого в своей правоте. Но, конечно, особенно яро они убеждали всех нас – напрямую с экрана, – мелькая там и промелькивая просветленными лицами – без единого, впрочем, звука и слова. Ах, как напористо, как зримо сменяли друг друга! И все же я не уловил, как там у них и у нас к концу вышло.
Меня отвлекло в сторону. В голубизне комнаты (и к экрану спиной) я напридумывал (помню) в эти минуты странную лунно-телевизионную реальность.
Вот какую: у нас здесь сложился свой очень изысканный «круглый стол». Я вникал – я отслеживал взгляды: этакую вязь четырех взаимно сплетенных и потаенных переглядываний (или даже подглядываний). Это был наш интим:
экран (знаменитыми лицами) уставился и, безусловно, смотрел (в обход моей спины) на нагую Лиду —
нагая Лидуся смотрела в основном на меня (на мое медлительно подвижное плечо) —
нагой я – на луну —
а нагая луна, завершая круг, уставилась прямо в голубеющий экран ящика – на мельканье там знаменитых лиц (обнажавших, по полной, свои души).
Засмеялась:
– Угадай, о чем я подумаю, когда буду заталкивать их бюллетень в щель?
Ну вот. Грубовата иной раз. (Имя её аукнулось.) Но, конечно, прощаю. Сам не лебедь.
– О чем?.. Угадай.
– Не знаю.
– А ты угадай!
– Наверное, о том, как твой кандидат втискивается в свой «ВОЛЬВО».
Она фыркнула:
– Вовсе нет.
– Ну, значит, как ты сама втискиваешь попку в узкую юбку.
– Нет! Нет!
– Значит, почтальон…
Я так и не угадал. Она хохотала:
– Какой глупый!
Смеялись оба мокрые – так крепко пробил нас трудовой чувственный пот. И оба шумно дышали. Лида-Лидуся, молодой бухгалтер, однако же и ей сердчишко давало знать!
Но только-только мне сладко подумалось о незаменимой в такие минуты чашке чая, как вдруг на стене заплясал луч. Свет… Фары машины… Я тотчас встал. Лидуся тоже. (Заметалась в темноте.) Спешно мы оба оделись.
Я – к их боковому входу-выходу, что со стороны веранды. Уйду садом.
Ее мужик… Уже года три, как он у Лиды, но в последнее время это похоже на финиш: отчаливает помаленьку наш мужичок куда-то в левую сторону. (Уже нечаст гость. Не балует Лидусю…) Открыл ворота. Ага! Въезжает… Закрыл…
Пока он там, на въезде, возится с воротами, мы прощаемся.
– Хорошо, что пришел… Поболтали, – говорит Лида. – Спокойной тебе ночи.
– Тебе вряд ли спокойная будет.
Она улыбается:
– Эт точно!
– Сейчас примется за тебя. Прямо с порога, а? Все по новой.
Она зевает:
– Э-а!.. Пусть его. Знаешь, девчонки в таких случаях говорят: второй – не первый!
Мы тихо смеемся.
Она:
– Он еще и телевизор, как ляжет, сейчас же включит. Новостями всегда интересуется.
И тут мы оба смеемся громче, чем надо бы.
Она:
– Тсс! С ума сошел…
Я шагнул в ночные запахи – шел садом. С глухим шуршанием (осторожно) ступал по траве. Вокруг всё были яблони, яблони… Разлапистые… Старые… Большие… Ни от кого не уходили и не бежали – деревья застыли в белесой лунной пыли.
Сад волнует. Я легко засмеялся… Я видел, что здесь, у деревьев, тоже свои выборы. Голосуют по старинке – сразу двумя руками. (Или даже тремя, четырьмя. Сразу всеми руками, сколько есть!) В полном согласии яблони, голосуя «за», вскидывали ветки к белому лунному свету.
В утробе
1
Я думаю о природе вытянутых земляных ямок. Вырыты ямы лапами несильными, но быстрыми. Я вслух ругаю. (Пусть Олежка слышит.) Пяток, мол, яблонь да смородина, бранюсь я… Одна, мол, кривобокая слива. Участок мой мал. И если сюда повадился крот, столь малое пространство он изроет и изгадит своими кучками-ямками очень быстро.
Ямы… Ямки… Есть такие, что круто и сразу в землю. (Начинал крот рыть нору – начал и бросил. Но это какой-то огромный крот. Таких не бывает.) Вытянутые свежие ямки…
– У людей большие участки. Нахватали земли! Нахапали!.. А с чего дурачок крот повадился ко мне?
Я возмущаюсь и бранюсь, но больше для вида. Я заметил, что Олежка тоже заинтересовался ямами… Может, он заговорит?.. Обычно он курит, сидя на крыльце. Теперь вот пересел на чурбак, нагретый солнцем. Так он ближе к теплу и к небу. И поближе (глазами) к ямам.
Олежка курит молча, одну за одной. Его длинные худые пальцы на руках желты, а прокуренные ногти (указательного и среднего) черны. Бордово черны, как после промашки, после неловкого удара молотком. Не знаю, о чем говорить. Если ему замечу, что курит много, он меня пошлет. Груб. (Да ведь не бросит курить. Я бы, пожалуй, испугался, если бы он бросил. Не знал бы, чего ждать дальше!)
Иногда крот делает ложный ход. Вспарывает землю на виду. Вроде как он, крот, слишком высоко взял, ошибся… Длиной ямка почти в метр… Потом крот выбирает лапами землю, совсем неглубоко, получается удлиненная выемка… Войдет ведра три-четыре воды в такую выемку. Чтоб не рыл дальше. В мокрую не сунется… Не нужны мне его кротовьи фокусы.
– Сволочь какая! – бранюсь я.
А сам жду: пусть Олежка тоже скажет, хотя бы сволочнет крота. Я же заметил по глазам… Рытая земля его привлекает.
Я продолжаю рассуждать вслух: нарытые ямы от яблонь неблизко. Но не сегодня-завтра крот их корни достанет и поранит. Если уже их не достал!
– Это не крот.
Ага. Заговорил.
– Почему не крот?
Спросил, а сам заделываю эти странные раны земли. Кучки разравниваю… Пучки травы возвращаю на место… Сгребаю всё вновь в кротовьи ямки. Утрамбовываю, утаптываю ногой.
Вялый, отстраненный Олежка все-таки выдавил из себя объяснение:
– Это не крот. У крота – норы. Узкие норы. У крота, дед, лапы очень тесно поставлены.
– Где ты их видел? Кротов? – я обрадовался, но радость скрываю. Мой мальчик все же открыл рот. (Теперь он все чаще называет меня «дед» вместо «дядя». Это, кстати сказать, точнее. Да и роднее.)
– С окопом рядом. Там было полно кротов.
– Вы их ели? – Я втягивал его в разговор, не важно как.
– Ха. Поди поймай… И еще вот что: кроту все равно, какая под его лапами земля – с травой или без травы. Крот не видит… Крот чаще всего изнутри роет.
– Из-под земли.
– Да. А у тебя, дед, лапами выбирали землю, где помягче… Снаружи выбирали… Видишь?.. Это собака. Я думаю, собака. Лапами быстро-быстро роет… И не нора, а явно выемка… Собака!
Действительно, выемки. Я заметил их случайно. Поутру их выдала трава. Появились недавно, свежие.
Чья-то собака! А может, ничья… Я тотчас согласился с Олежкой. Я готов был говорить и говорить. У меня, Олежка, в заборе полно дыр. Собаке прошмыгнуть и попытаться зарыть здесь старую кость – самое оно! Без проблем!.. Олежка!
Но парень уже ушел. Не дослушал.
– Олежка?.. Будешь отдыхать?
Он не ответил. Пересел с чурбака опять на крыльцо. Вынул там сигарету. Закурил. На чёрта ему думать о моих ямах.
Сейчас лето, он без дела. Сломавшийся солдат не хотел ничего – ни думать, ни делать – и совсем не хотел работать. Он сменил за год уже десяток работ и мест службы. За столом, с дешевеньким калькулятором в руке… Или с лопатой, с ломом… Или на рынке, возле коробок с товаром… Но удержаться на месте не мог. Загадка шеи или загадка головы? Что у моего бедолаги уставало больше?.. Чуть что, и он клонил голову, отыскивая солдатской башке теплое местечко.
– Эй! – расталкивали его. – Ты что?
Но как ни толкай-ругай, через десять минут его голова опять опускалась, чтобы уткнуться, скажем, в колени. Или же опускалась на поверхность казенного стола. С тихим, но слышным стуком. Стучу башкой, дед. Сам о себе начальству докладываю.
Не высыпался ночами, вот и вся разгадка. Как он мог выспаться, если ночами беспрерывно мотал головой на подушке туда-сюда, да еще с какой энергией! С каким напором! Смотреть было не только неприятно – страшно. Однажды, вернувшись домой поздно ночью, я увидел эту молотьбу во всей красе. Я даже озлился. Ночью ведь забываешь как и что… Только стариковское раздражение… Хотелось дать по бесноватой башке. Пусть успокоится!
Звуки… Сначала я расслышал туда-сюда кач. Честно признать, я тогда подумал, Олежка кого-то привел и трахает. Наконец-то. Я даже порадовался за него… Пора ему!.. Шорк-шорк. Кач-вскачь. Но он лишь качал головой. Подушка влажная, мокрая (шея наверняка в обильном поту!), отсюда и мерный шоркающий, чавкающий призвук. Вдруг замотал головой с такой силой и страстью (именно страстью), словно хотел, чтобы она оторвалась и наконец перестала посылать ему (его шее) некие жуткие сигналы… Он подвывал. (В ту ночь я испугался.)
– Не пора ли поесть? – зову я.
Мы с ним – через поколение. Контакт слабоват. Но, как всякий старик, я надеюсь, что я излучаю для Олежки некий слабенький свет опыта. Как-никак я уже протряс свое тело по житейским дорогам, а он нет.
– Не пора ли есть, эй? – Но после долгого молчания мой голос почему-то негромкий.
Он не слышит. Сидит на крыльце, вынул очередную сигарету… Вижу издали его черные прокуренные пальцы. Два черных ногтя на среднем и на указательном пальцах руки. (Соседствующие с сигаретой.) Выковырнул спичку… Чирк… Еще чирк… Солдатское счастье.
2
– Ну, мотает башкой. Ну, шоркает, подвывает – тебе, Петрович, не угодишь! А если бы он молчал… А если бы лежал мертвяком – тебе бы понравилось?
И Лидуся добавляет:
– Может, он башкой мотает – и всякую гниль от себя отбрасывает.
– А?
– Может, он так выздоравливает.
Мотает и отбрасывает от своей жизни всё лишнее. Отбрасывает гнилое, а? Каково?.. У Лидуси бывает острая мысль. Вдруг, среди ночи – и острая. Молодец. Я доволен.
А Лидуся недовольна. Даже если спишь бок о бок, минутка сна лишней не бывает. Ночью надо же и поспать.
– Спим, спим, – согласно говорю я.
– Где ж спим?!. Ворочаешься!
Лидуся права. Сто раз права! Если бы вдруг он перестал трясти головой, я бы еще больше испугался. Вряд ли само собой прошло. Вряд ли кончилось… Не верю я в такие счастливые концы. Не верю в сказочку… Почему не шоркает по мокрой от пота подушке?.. Почему, почему он не мотает башкой? – терзался бы я. Значит, уже таблетки? (Каркас будущих бед…)
Если бы Олежка не родной мне (единственный из родни, оставшийся мне действительно близким, так уж получилось!), я, кажется, был бы не прочь, чтобы его дергающаяся башка сделала наконец, что хотела – оторвалась бы! Наконец-то! И точка!.. Смотреть невозможно. Но нет, солдатская шея держит, эта шея держит что угодно, это ей запросто – как переброс футбольного мяча с фланга на фланг – пас! Еще пас!.. Я сидел с ним рядом – я старик, но я и помыслить боялся, какие триллеры могут прокручиваться внутри головы при таких ее перебросах, при такой распасовке. А вдруг там, в его спящих извилинах, ничего – чистота пустого места? Белый лист?.. И даже ничего не мелькает, не мерещится ему, кроме тонущих «Титаников» и прочих киношных концов света?.. (Это я так думаю. Он – наверняка нет.) Но ведь что-то ему снится. Что-то же он там видит! Мой мальчик губы кусал – однажды я углядел кровь. Щеку прикусил!
Пацан. Так я его зову, он приучил. Они там, в окопах и на блокпостах, звали себя пацанами, так и быть. Я с удовольствием называю его (мысленно!) мой мальчик! У меня рядом нет близкой родни. Ему не нравится. Ему это сладковато.
– Дед, – сказал он в первый же день, вернувшись, – ты говно. Какой я тебе мальчик… Ма-аааль-чик, – передразнил он чью-то гнусную интонацию.
И потому я нет-нет и принимаю его правила. Их правила. Я, отживший свое, отмирающий интеллигент, наткнулся (как с разбега) на их поколение, на их черезпоколение. И хочешь не хочешь мимикрирую: подделываюсь то под язык молодых пэтэушных девчонок, то под окопного парня… пардон, пацана.
И потому подойдя к нему, сидящему на крыльце, я небрежно бью его по плечу (самое оно!) и хрипловато ворчу:
– Пацан. Как насчет пожрать.
Без вопросительной интонации.
Конечно, курение, даже чрезмерное, даже с черными ногтями на двух околосигаретных пальцах, – никакой не знак. Ничегонеделанье пацана тоже не знак. (Все курят. Все бездельники курят много.)
Олежка, на мой взгляд, сейчас никто – тихое, тишайшее болото, из которого лишь понемногу сочится, выползает водный ручеек.
Но вода знает, куда течь. Олежка, как и все они, будет попивать. (Уже попивает.) Сидение со мной за столом, болтовня со стариком под портвешок ему неинтересны… А вот водка в одиночку – это да. Я подозреваю. Я почти уверен. Вдруг уезжает. И вдруг возвращается с запашком. (А что может быть еще, кроме водки?.. Компания дружков потребовала бы по времени больше часов. Любовные дела еще больше.)
А на очереди – таблетки. Тоже потихоньку. Выклянчиванье в аптеках. Втридорога там всякому продадут… И только затем контакты. Вот тут начнется. Такие же, как он… Я их насмотрелся. Качающиеся. С мутным взглядом. Они идут уже на всё. Лишь бы тридорогие деньги… И такой, в сущности, у этих парней короткий путь. Каких-то полгода. Будет глотать «колеса», потом перестанет, потом снова. Потом кинется к врачам. Но это уже ничего не меняет. И вот получите – качающийся возле аптеки… Таблеточник. Готовый на всё.
Во мне в минуты такой растерянности просыпается совок. Согласный строить планы и верить в светлый финал – бороться!.. Совок готов биться с недругами, хоть с десятком, готов биться с пороком, с бедой, с наследственностью, хоть с мертвой пустыней… но… Но даже и просветленный совковым напором, я не в силах биться с целой эпохой деградации. Я не могу биться с огромной прослойкой отупевшего молодняка – с их человеческим фактором, с тысячами и тысячами молодых придурков и «пропащих» девиц. Потому что они далеко не придурки – они уже культура, а против культуры не попрет никакой упрямый взыгравший старик, никакой вдохновенный совок…
Когда без сна ворочаюсь в постели рядом с Лидусей, я, должно быть, кажусь ей жестким. Коленчатым. (Коленчатым валом.) Костлявым механизмом. Зато она чудо, как мягка… Поворачивается она редко. И медленно. Крупное тело… Слониха… Ночью все преувеличивается. Я преувеличиваю Олежкины страдания, Лидуся преувеличивает мои…
– Иди. Иди ближе… Снотворного, а? – с глуховатым смехом зовет, притягивает Лидуся меня к себе. Моя бессонница ее достала.
Она счастливо устроена. Она на сто процентов уверена, что сладка и что всегда желанна, что она в этом деле мастер-класс. Она и правда хороша, и это замечательно, что она не подозревает, насколько ее ласки скромны, умеренны – и в очень скромных границах. Я этого, разумеется, не выскажу и намеком. Старик видит плюсы прежде всего остального. Лида – мой нынешний потолок. Сладкая молодая женщина… И я не забываю ее похвалить.
Чуть что бросал работу. Скучно ему. Отвратно ему. Меня, дед, от них ломает! – так он объясняет свое тотальное безделье. Тотальное, если не считать иногда вырывающейся (прорывающейся в его голосе) надежды на лето.
Я в нем заметил. Это странное (для юнца) напряженное ожидание жарких дней и теплых ночей. Нет ведь у него никакой работы, чтоб вырваться в отдых. Нет жилья. Нет друзей… Только и есть ожидание лета. (Уже кое-что.) Старенькая дачка двоюродного деда (моя) – и вся его надежда нацелена на эту дачку и на лето. Так он говорит. Однако затем сидит молчком на крыльце и курит, курит. Не шевельнет ни пальцем, ни извилиной, а ведь вокруг уже лето – чего ему еще?
В начале лета он пытался. Первые два-три дня. Теперь уже не пытается. И при этом (при этих своих непопытках) надеется, что лето его спасет. Что за пустая мысль, что за безнадёга!.. Лето ничто – человек всё… Даже если это соседствующая по даче Лариска… Лидуся сказала, что Лариска после свидания с ним пришла вся истерзанная, невыспавшаяся, с громадными синяками под глазами. Терзали друг друга всю ночь, и что?.. А ничего. Вся в синяках, в засосах и… и в слезах. Полный ноль, сказала эта Лариска, куря сигарету и смахивая вдруг побежавшие слезы. Сказала про моего пацана. Про Олежку. Пацан-ноль…
Было второе свидание, второй раунд, еще более провальный. На этот раз пацан был вял, был никакой, так и пролежал рядом с Лариской, как не понимающий, чего от него ждут. Как инопланетянин, сказала Лариска. Сообщила Лидусе коротко. Подробно без подробностей. Лежал пацан и молчал. И не хотел. Не шевелился, когда Лариска его поощряла… А каково же было его унижение. Каков был его молчаливый сон-не сон. Рядом с продолжающей поощрять (и уже злой, мысленно чертыхающейся) Лариской. Бедный пацан!..
«Эх, дед! Ты и представить себе не сможешь, как тебя возбуждает, когда ты на броне!» (Почему это я не смогу представить? Я даже Лариску могу с собой рядом представить. На броне.) – «Возбуждает!.. Больше, чем любой бабец! Когда тебя трясет, когда на броне подбрасывает, колотит, – а кто-то из зеленки в это время целит тебе в лобешник!» – «Впустую мне это». – «Не впустую, дед. Когда ты взъярен, танк или БТР, с которым ты слипся, пролетает опушку быстрей, чем торопящийся за тобой прицел, чем глаз стрелка… Все пацаны это знают. Пацаны так возбуждены, что даже привстают на броне, грозят кулаком зеленым кустам – на, сука, стреляй! Все равно промажешь!» – так Олежка рассказывал в первые дни (уже летом) по приезде, в первые два дня… перед походом к Лариске. А потом смолк. Сидел на крылечке и смолил одну за одной. Черные пальцы…
Я уверен, он не для меня – для себя самого рассказывал. Напоминал себе, что физиология в норме… Он же помнил. Он повторял вслух, как повторяют заговор. Он шел на свидание и помнил, помнил эту прыгающую под ним, возбуждающую броню… Перед свиданием с Лариской он ерзал, сидя на крыльце. «Дед. У тебя твой мерзкий портвешок остался?» – Ерзал. Не хватало тряски. Ему не хватало, чтобы подгнившее мое крыльцо пронеслось БТРом по дурной дачной дороге. Не хватало, чтобы крыльцо подпрыгивало и ухало по канавам. Ему не хватало, чтобы кто-то сейчас в это крыльцо целил и запоздало стрелял.
Знаю. Помню… Потерял лучших друзей. Еще и поэтому, мол, он никакой, от горя черный. Не люблю слово черный. Я знаю, знаю, что и вправду потерял друга уже здесь. Алик повесился… Тоже контуженный. Пришел из армии и, обнаружив, что некоторые девчонки на дискотеке с ним не идут, а с кем-то другим под ту же самую музыку весело приплясывают, нашел себе веревку (ремень) и какую-то нехитрую точку опоры. Кажется, дверную ручку. Повесился сидя.
Боюсь… «Дед. Я не так уж контужен. Мне просто нужно отлежаться». Мой не так уж контуженный (и никого не винящий) мальчик станет таблеточником – станет качающимся длинным доходягой возле аптеки… Или сам выйдет на дачную дорогу за кой-какими малыми деньгами. Не с мокрухой, но с угрозами. Вот и зависимость. Моя мысль пугается самой себя. Этот качающийся доходяга попадет шестеркой к кому угодно… К дешевому блатяге. К базарному гангстеру… Я (бывший совок) был когда-то приучен, что план сильнее судьбы. И потому моя мысль бьется как в припадке: спасти! спасти!.. Всякого, мол, можно спасти, если успеть помочь до. Но как я успею… Олежка захвачен целым слоем таких же. Эти вялые молодые мужики деградируют целой прослойкой и по своим (мне не видным) законам. У них свой слог и свой скок, своя эволюция, – против стада не наплюёшься, и где уж мне, старику, успеть до.
Я ломал голову. Если парень раскрепощается и набирается крутой злости через секс, это норма (как ни жутко это звучит), это нормально, и он по жизни еще всё свое успеет… Но перестановка «секса» и «насилия» всё меняет. И если раскрепощение парня началось с насилия и убийств, продолжения не видно – и никаких других раскрепощающих дорог уже нет. Эти люди в будущем (эти парни) совсем не обязательно уголовники. Они не обязательно злы, безжалостны и круты на расправу. Они не обязательно наши начальники. Милейшие и мирные могут быть люди. (После того как убивали других.) Они как мы. Однако им всегда будет понятнее и предпочтительнее видеть мир (и людей) через перекрестье прицела «кто кого осилил». А не через замочную скважину «кто там кого имеет… любит или не любит». У меня даже заломило в мозгах. Я стар для таких напряженных мыслей. Башка такое уже не держит… Мелькнуло и нет… Мелькнет, и вроде бы важно, суперважно, а через минуту думаешь – о чем это я?.. Вот тебе и до. Ре-ми-фа-соль…
3
Ночь. И я не знаю, куда иду – к Лидусе… или уже от Лидуси топаю к себе домой?.. Стариковская (и плюс усталая) голова ночью устроена невнятно. Но ведь я иду от дачи к даче, значит, разберусь. Главный ориентир – наша речушка.
С той стороны речушки, держась друг друга, расположились дачами наши состоятельные люди – у нас их зовут «средненькими». (Словцо «богатые», «богатенькие» все еще провокативно. Не надо нам его. Пока что.) Эти «средненькие» очень быстро разобрали спуски к реке. Их аккуратные и надежные (и прозрачные глазу) строгие заборы сбегают прямо в воду. Чудо! (Со временем речка, она небольшая, отойдет к ним.) Речушка – это будущий их законный страж.
По эту сторону речки разномастная голытьба. Когда пробил день послабления (а в нем, в этом дне, – час дележа), из Москвы хлынули толпы, с тем чтобы окружающую землю приватизировать – захватывать, брать, покупать. Хватали кусок за куском, где умоляя, а где угрожая и беря одряхлевшее начальство силой… Главное – прихватить землицы. А там кое-как слепил из досок сарайчик, вот и дача!.. А уж потом связаться с какой-нибудь воровской стройкой. И строить, и строить дальше, по возможности, обворовывая вора. Так что и голытьбе кое-что перепало. Хоть разок в жизни! Сарынь на кичку.
Иду вдоль темных ночных дач… Ага, Мироновы… Уклеевы… И ведь у них тоже (как и у Олежки) некая избыточная надежда на лето – у всех нас! Почти готовая национальная идея. Лето, лето! Дайте прожить лето!.. И в самом языке русском не говорят, не спрашивают, сколько ты годов прожил? Сколько лет
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.











