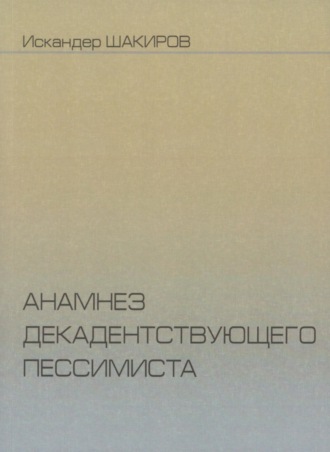
Полная версия
Анамнез декадентствующего пессимиста
– Нет-с, домой хочется… тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи… в одну сторону и в другую – все одинаково… Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет… Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.
Изолировав Башкирию от южных кочевых соседей, Оренбургская экспедиция избавила край от набегов казахов и лишила их возможности объединяться с башкирами против дальнейшего продвижения России. Строительство многочисленных крепостей в регионе в известной степени стабилизировала внутриполитическую ситуацию в нем и положила начало активному заселению Южного Урала русскими, продолжавшемуся очень высокими темпами вплоть до 80-х гг. XIX в.
Колонизировав многочисленные земли, Россия применяла колониальные режимы непрямого правления – принудительные, коммунитарные и экзотизирующие – к собственному населению. "Богатая насилием и бедная капиталом", империя осваивала и защищала эти огромные земли, давно или недавно приобретенные по причинам, о которых помнили – или уже не помнили? – одни только историки.
Согласно теории Жирара, если общество не может достичь мира с помощью закона и суда, оно приводит в действие древний механизм жертвоприношения, понимаемого как коллективное участие в акте насилия. Исторические общества от человеческого жертвоприношения перешли к животному, а затем от реальной жертвы – к символической. Что происходит в светском обществе, где религиозные обряды значат все меньше, но судебная система остается слаборазвитой? В таком обществе можно ожидать неконтролируемый рост насилия и его символических субститутов. А может быть, сам роман является механизмом замещения жертвоприношения? Здесь ради коллектива умирают не люди, а их репрезентации. Наряду с драмой и оперой, где работали сходные механизмы, в XIX веке роман был одним из средств жертвоприношения. В следующем столетии эта роль перешла к кино. Конечно, не в каждом романе в конце появляется труп, но таких романов много. А у трупа всегда есть пол.
Отношения между героями построены по модели Книги Бытия. Человек Культуры, потомок согрешившего Адама, спорит с Человеком из Народа за власть над русской Евой, бесклассовым, но национальным объектом желания. Гендерная структура пересекается с классовой, и обе они заключены внутри национального пространства, которое символизирует Русская Красавица. Иногда она пассивна, но чаще ей предоставлено право делать выбор между соперниками-мужчинами. Пол и класс жертвы – исторические переменные, ключевые элементы в развитии сюжета.
Пушкин сформировал триангулярную конструкцию в «Капитанской дочке»: восставший казак Пугачев – Человек из Народа, молодой офицер императорской армии Гринев – Человек Культуры, и Машенька – Русская Красавица. В народе скрыты ужасающие глубины, тайная сила и невыразимая мудрость; за государством лишь дурная дисциплина и чуждая рациональность. Казак-старовер и романтический бунтовщик, Пугачев пугает и чарует всех, даже Гринева, в остальном верного империи. История разыгрывается в большом имперском пространстве между Санкт-Петербургом и Оренбургом – столицей, расположенной на периферии, и далекой провинцией в географическом центре империи.
«Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица! Дражайшее нам и потомкам нашим неоцененное слово, сей приятный и для позднейшего рода дворянства фимиам, сей глас радости, вечной славы нашей и вечного нашего веселия, в высочайшем вашего императорского величества к нам благоволения слыша, кто бы не получил из нас восторга в душу свою, чье бы не возыграло сердце о толиком благополучии своем? Облиста нас в скорби нашей и печали свет милосердия твоего! А потому, если бы кто теперь из нас не радовался, тот бы поистине еще худо изъявил усердие свое отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имения своего на составление корпуса нашего. И бысть угодна наша жертва пред тобою; се счастие наше, се восхищение душ наших!» С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, Вашим усерднейшим и покорнейшим слугой.
«Великий государь, царь наш и над цари царь, самодержавный повелитель, достойный император. Как чему повелит быть, так и подобает тому быть неизменно и нимало ни направо, ни налево неподвижно. Яко Бог всем светом владеет, тако и царь в своём владении имеет власть». Российского войска содержатель, всех меньших и больших уволитель и милосердой, сопротивников казнитель, больших почитатель, меньших почитатель же, скудных обогатитель, и прочая и прочая…
Солдаты гогочут во время перемирия. И чтобы никогда слуги государыни не будили, а государыня бы слуг будила. Так, земной правитель из живого Бога, родственника или потомка богов, превращался в его наместника, представителя и исполнителя божьей воли в земных делах. Бог правит всем – он пантократор. Император вершит земные дела – он космократор. (Понятно при этом, что древние более почитаемы, чем новые).
Глава 13. Страна Россия
…Опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре – дожди. Такая нелепая, неуклюжая страна эта наша Россия. Так дико, замкнуто, бесцветно и безнадежно здесь всё.
Его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! Народ, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира. Русский человек только и делает, что искушает Господа каким-нибудь рацпредложением. То один вариант предложит, то другой по части устроения мира. Богу хлопотно с русским человеком.
«Российский старожил давно заприметил вострую особенность нашего бытования: каким бы мерзостным не казался текущий режим, следующий за ним будет таким, что заставит вспоминать предыдущий с томительной ностальгией. А ностальгии хорошо предаваться под водочку, закусочку и все то, что обыщется промеж». «Было блядство с надеждою, таперича – безнадежное блядство», – говаривал покойный Юрочка. И нет в государстве этом Геракла, чтобы вычистил все. Похоже, что уже и не будет. И пусть им.
Несчастливый этот город, дрянной городишка. Уеду отсюда, пока ещё поезда ходят. Из России всегда почему-то бегут весной. Я вообще мало знаю и не понимаю Россию. Мне кажется – это страна людей, которые не нужны никому и сами себе не нужны.
Однако к чему ведет незнание своего места и своего дела? К.П. Победоносцев одной из основных «болезней нашего времени» называет хроническое недовольство и раздражение «против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, против других людей, против всех и всего, кроме себя самих». Победоносцев объясняет этот массовый негативизм тем, что люди обманываются в ожиданиях: «люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и чрезмерных, искусственно образовавшихся, потребностей». Автор, останавливаясь на причинности подобных явлений, указывает, что «прежде было больше довольных и спокойных людей, потому что люди не столько ожидали от жизни, сколько довольствовались малой, средней мерой, не спешили расширять судьбу свою и её горизонты. Их сдерживало свое место, свое дело и сознание долга, соединенного с местом и делом». В итоге, люди, которые считают, что они в ответе за все и за всех, не отвечают ни за что и ни за кого.
Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается.
Империи всегда питали страсть к картам, которые служили моделью для будущих завоеваний так же, как и изображением уже завоеванных территорий. Сверься с картой страны. Какое прошлое, такое и настоящее. И такое же будущее. Что за испытание для моей юной спеси! "Как можно быть россиянином?" – это был вопрос, ответ на который таил в себе для меня ежесекундные унижения. Ненавидя своих собратьев, собственную страну, ее крестьян, существующих вне времени, влюбленных в свою косность и как бы сияющих тупоумием, я стыдился того, что происхожу от них, отрекался от них, отказывался от их неполноценной вечности, от их непреложных, словно у окаменевших личинок, истин, от их геологической мечтательности.
Наполняя многие страницы похвалами европейцам, о русских он писал с аристократическим безразличием, не вдаваясь в детали: «Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа были нам слишком известны».
В Москве в 1927 году Вальтер Беньямин с удивлением обнаружил, что Россия не знает романтического образа Востока. «Здесь нашло себе почву все, что есть в мире», говорили ему московские друзья, и Восток и Запад; «для нас нет ничего экзотичного». Более того, эти марксисты утверждали, что «экзотизм – это контрреволюционная идеология колониальной страны». Но, покончив с идеей востока, московские интеллектуалы вновь вернули ее к жизни, придав ей советский размах. «Самым интересным предметом» для новых московских фильмов стали российские крестьяне, которые казались их авторам очень непохожими на них самих: «По способу восприятия крестьянин резко отличается от городских масс». Когда крестьянин смотрит фильм, говорили Беньямину его московские друзья, он не способен следить за развитием «двух нитей повествования одновременно, как это бывает в кинематографе. Его восприятию доступна только одна серия образов, которые нужно показывать в хронологической последовательности». Поскольку крестьяне не могут понять темы и жанры, «взятые из буржуазной жизни», им нужно совсем новое искусство. Создать такое искусство – «один из самых грандиозных экспериментов над массовой психологией, которые проводятся в гигантской лаборатории, какой стала Россия», – писал Беньямин. Несмотря на свои симпатии к новому искусству и новой России, Беньямин не обольщался их успехами: «Колонизация России посредством кино дала осечку».
«В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников. Мы как бы чужие для себя самих. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Правда, при таком разговоре можно скатиться в «белибердяевщину», про которую говорил острослов Г.Г. Шпет. Но «бабство» и сусальность русской философии и литературы – это крайний вариант того же беспочвенничества, той вненаходимости, от которой всегда страдала русская культура.
Приходится признать, что нам еще далеко до Европы. Недавно был по приглашению своего коллекционера во Франции, смотрел парад жандармерии. Какие лица! Достоинство, стиль. Здесь таких не сыщешь. Вырождение, вырождение! Каждый человек – это цвет, в худшем случае оттенок, побеждающий бесцветие, к которому мы уже привыкли с вами, дорогой друг… Еще лучше – белый цвет, цвет, которого нет, но который в себе заключает… Но мы должны найти способ убедить этот народ.
Мы для Запада своими руками постоянно из огня каштаны таскаем…
«Я даже думаю, что психические опасности куда страшней эпидемий и землетрясений. Средневековые эпидемии бубонной чумы или черной оспы не унесли столько жизней, сколько их унесли, например, различия во взглядах на устройство мира в 1914 г. или борьба за политические идеалы в России».
Европейский гость XVI века сформулировал дилемму, к которой до сих пор обращается русская и русистская мысль: «Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким». Понять это трудно, но главные вопросы политического действия – «кто виноват?» и «что делать?» – критически зависят от этого понимания.
Дилетант-востоковед и талантливый администратор, граф С.С. Уваров следовал за идеей «национальности», популярной в Европе после Наполеоновских войн, и творчески переводил ее как «народность». Россия одновременно и империя, и колония. Поздний последователь славянофилов Федор Достоевский писал в 1860 году, что нет другой столь же непонятой страны, как Россия. Даже Луна лучше изучена, утверждал он со знанием дела: он только что вернулся из сибирской каторги. Таким образом, борьба с капиталом есть одновременно борьба с империей. В семье муж «от естества» властвует над женой и детьми, и на том же основании стоит монархия: «Монарх яко отец, а подданные яко чада почитаются, каким бы порядком оное и учинилось». Даже официальный историограф Российской империи Н.М. Карамзин поддержал идею, что славяне с помощью Рюрика создали самодержавие, чтобы усмирить самих себя.
Российская армия использовала новейшие достижения артиллерии, например «секретные гаубицы», только что изобретенные графом Петром Шуваловым. Они имели необычное дуло в форме горизонтального овала и стреляли картечью веером над головами своих солдат. За раскрытие их секрета полагалась смертная казнь, но потом Фридрих захватил эти гаубицы, не нашел в них ничего ценного и выставил в Берлине на посмешище. Российская армия по-прежнему полагалась на легкую кавалерию и этнические соединения. Самим русским эта восточная конница казалась дикой и страшной. Офицер российской армии Андрей Болотов был поражен, увидев, как эти «странные», «полунагие», привычные «есть падаль лошадиную» воины вырезали население немецких деревень ради славы российской короны. Калмыкам было разрешено грабить старые прусские арсеналы. Вооруженные средневековыми саблями, в доспехах и шлемах, они должны были выглядеть смехотворно; но мало кто смеялся на этой войне. Для калмыков то были последние годы их российской службы: в 1771 году они покинули волжские степи и начали исход в Китай.
Российский генерал, войдя в Пруссию, крайне удивился, увидев делаемые казаками повсюду разорения, поджоги и грабительства, и с досадою принужден был быть свидетелем всех жестокостей и варварств, оказываемых нашими казаками и калмыками против всех военных правил… Во всех тамошних местах не видно было ничего, кроме огня и дыма; над женским полом оказываемы были наивеличайшие своевольства и оскорбления. Таковые поступки наших казаков и калмыков поистине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же. Столетия спустя Гитлер в окруженном Берлине часто говорил о Фридрихе и надеялся на новое «чудо Бранденбургского дома» – чудесное спасение от советских войск. Колонизация Кенигсберга натолкнулась на молчаливое сопротивление его жителей. Убежденные в превосходстве своей культуры, они подчинялись российским оккупантам, но презирали их своим особенным тихим способом. Это еще один пример отрицательной гегемонии: российская власть над Восточной Пруссией была типично колониальной ситуацией, в которой правители прибегают к принуждению, не сумев убедить коренное население в своем праве на господство или хотя бы в своей способности управлять. Горожане ответили ранним националистическим движением, которое имело огромные последствия для европейской мысли, и после ухода колонизаторов предались беспрецедентным размышлениям о власти, разуме и человечности. Подобный интеллектуальному взрыву, последствия которого отдаются веками спустя, этот короткий эпизод колониальной истории стал точкой входа в глобальную современность.
Паника, считает Болотов, произошла из-за угольных «согревательниц», которые «зажиточные жительницы» Кенигсберга приносили с собой в церковь и ставили на пол под юбками. Болотов запомнил еще беспокойство коллег-офицеров за российский пороховой арсенал в подвале Замковой церкви, из-за чего паника перекинулась и на русских.
В эпоху общих революций не отсидеться в хате с края; мы даже чай гоняем с блюдца, кому-то на руку играя. Как показал наш опыт, стихия революционных форм борьбы под лозунгами освобождение рабочего класса приводит к тому, что как раз рабочий класс с его интересами оказывается не только по существу забытым, но и начинает подвергаться гораздо большей эксплуатации, чем до революции. Тысячу раз прав А.С. Пушкин: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят постепенно, от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».
Князь NN, один из видных деятелей земства, предварил свои мемуары, писавшиеся в конце 1930-х годов, следующим замечанием: «Без лишней скромности я могу сказать, что вправе считать себя лицом, вполне подходящим для того, чтобы быть автором исторических мемуаров. Во-первых, я прожил долгую жизнь и много видел, во-вторых, благодаря случайным обстоятельствам, я был знаком с жизнью и бытом самых разнообразных слоев населения России, его верхов и низов, ее столиц и провинции, что было доступно весьма немногим, а в-третьих, не играя сколько-нибудь крупной роли в исторических событиях, я нередко находился в самой их гуще и был знаком почти со всеми крупными политическими и общественными деятелями своей эпохи. Главные актеры исторических драм и трагедий поневоле тенденциозны в своих мемуарах. Мои же мемуары, при всем их субъективизме, не могут быть тенденциозными просто потому, что, не совершив больших дел, я не нуждаюсь в самооправдании перед историей». Историки пишут от прошлого к настоящему, но мыслят от настоящего к прошлому. Важны, однако, детали.
Дорогие друзья! Юноши и девушки! Школьники и школьницы! Предприниматели и предпринимательницы! Пенсионеры и пенсионерки! Бюджетники и бюджетницы! Силовики и силовички! Временно работающие и временно неработающие! Стражи суверенной демократии и строители властной вертикали! Правозащитники и правонарушители! Зарегистрированные и понаехавшие! Согласные и гласные! Наши и "наши"! Господа и товарищи! Философских дел парикмахеры и философастеры. В обществе бал правит простое большинство. Большинство – это сила, но не всегда истина, что ведет к недоразумениям, амбициям, тяжбам, а в конечном итоге – к ослаблению единства сообщества. Меньшинство оказывается заложником большинства. Пока люди организуют свое сообщество на уровне процесса, они имеют возможность активно вмешиваться в свое творчество. Но как только это творчество обретает опредмеченные формы, оно получает относительную самостоятельность, независимость от тех, кто его созидал, ибо в своем развитии оно уже подчиняется своим законам, а не воле своих творцов. Зачем избирателю из большинства ходить на выборы? Он же из большинства, его воля все равно будет реализована. А из меньшинства зачем избирателю ходить на выборы? Он же из меньшинства, его воля все равно не будет учтена.
Говоря словами Альбера Камю, «протест, длившийся слишком долго и оттого застывший, стал искусственным образованием, приведшим к другому виду бесплодия. Тема проклятого поэта, родившаяся в буржуазном обществе, вылилась в предрассудок, который в конце концов стал диктовать следующий принцип: нельзя сделаться великим художником, не протестуя против своей эпохи, какова бы она ни была.
И, наконец, свобода имеет множество проявлений, но не все они оцениваются адекватно. Чаще всего это восприятие на уровне «так и должно быть». Что касается свободы как результата преодоления одной из форм отчуждения человека от собственности, власти и культуры, то эту свободу может оценить лишь тот, кто прошел дорогу от невольника до вольноотпущенника, преодолев путь заложника чужой воли. Нужно тяжело переболеть, чтобы осознать и должным образом оценить состояние здорового человека.
А мне это нравится. Работать и приносить пользу стране, где мой народ живет, который дал этому государству его загадочное название. Мне нравится, что у народа нашего болванского государства глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где всё продаётся и всё покупается: глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Смотрят исподлобья с неутихающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире Чистогана… Большевики истребляли цвет нации, расчищая поле для жидовских репьев да быдляцкой лебеды. Вот она и дала потомство, лебеда-матушка! Ее с корнем трудненько выдернуть! Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий… отечество не оскудеет идиотами. – А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек сто в стране осталось, и все у ФСБ под колпаком. По всему лицу земли родной, где великие дела творятся ради жалких результатов. Однако, как говорят у нас – «нет худа без добра». Угораздило же меня родиться в России с умом и талантом. Отечеству своему ничтожный слуга. «Суть просто в мужике, который пашет себе хлеба, в попе, который служит себе в обедню, и в солдате, который «провожает глазами начальство» (ну и защищает отечество; солдат – молодец). В самом деле, многие люди первоначально поступают добродетельно из страха перед начальниками, и только впоследствии, привыкнув жить добродетельно и осознав превосходство такой жизни, «прилепляются» к добродетели уже ради нее самой.
Время уклоняться от объятий с аутизмом и интроверсией, работа прочищает голову, сколько автоматизмов вот наши вечные поработители, каждое движение текстуально, мы в тексте, а выход… выход неужели только смерть; за что избрал ты плоть мою полигоном своих причуд, главное не идти на поводу, эгонаша любовь, записана на небе, интимно-прикладная, чёрно-белый союз наш, разорви платье первых достоинств, прикажи разрушить мне излишества по отношению к твоему тайному.
Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг звон разбитого стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за мальчиком. Мальчик бежит и думает: "Зачем, зачем все это?! Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья?! Зачем? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжки своего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?" Гавана. Эрнест Хемингуэй дописывает очередной роман и думает: "Зачем, зачем все это?! Как все надоело, вся эта Куба, эти бананы, этот тростник, эта жара, эти кубинцы! Почему я не в Париже, не сижу со своим другом Андре Моруа в обществе прекрасных куртизанок, попивая свой утренний апперитив и беседуя о смысле жизни?" Париж. Андре Моруа, поглаживая бедро прекрасной куртизанки и попивая свой утренний апперитив, думает: "Зачем, зачем все это?! Как мне надоел этот Париж, эти грубые французы, грязные мароканцы, тупые куртизанки, эта Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в России, не в Москве, где холод, снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым и не пью чай у печурки?" Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. С метлой. Гонится за мальчиком и думает: "Догоню – убью!!!"
Еще пришло ощущение, что эта бездна дерева, бревнистость Древней Руси соотносится с духом народа и характером нашей истории по цвету и на ощупь – сочетание угловатости и круглоты, вещественность телесная, теплая, но не слишком долговечная, расслаивающаяся, выгорающая дотла, до пустого поля, и вновь растущая, как трава, по сравенению с камнем европейского средневековья наша деревянная древность ближе к живому нутру, бесформеннее и ненадежнее, мало уцелела, не заботилась о накоплении, пробелы, невыявленность замысла, всякий раз заново, пусть и на старом месте, расплывчатые черты, лишь кое-где в океане бревна вдвинуты каменными островами соборы, Иван Грозный, Нил Сорский, посреди невнятных песен, лицо довольно аморфное, неопределенное, готовое принять первый попавшийся образ, топорное и нежное вместе, мечтательное и тупое, лишенное четкости, вспомним Кавказ, чекан по металлу, очерченность гор и горцев, ястребиный нос, острие усов и бровей, острые пряности, перец, и деревянная наша еда – каша, которую не испортишь, все воспримет, усвоит, финны, греки, татары, варяги, французский жаргон, Петербург, как масло, растворяются в каше, не теряем бесформенности, не гонимся за чистотой крови, переваривая любое добро, и нос картошкой, скулы косяком, сойдет, авось, Сократ в лаптях, мудрец под простеца, и в красоте древесная стертость, твое струящееся, растекающееся под взглядом лицо, как пейзаж, сероватое дерево, на фоне жухлого неба, в древесине тяжесть и легкость, воздушность линий, волокон, душевность, непостоянство, не то что камень, и это городское гнездо, сплетенное из бревен с навозом, которым устилали дворы, подгребая, материнским тряпьем, укроешься с головкой, и мягко, тепло на той мостовой.
«И Россия – ряд пустот… Пусто общество. Пустынно, воздушно. Как старый дуб: кора, сучья – но внутри – пустоты. И вот в эти пустоты забираются инородцы; даже иностранцы забираются. Не в силе их натиска дело, а в том, что нет сопротивления им». «Россия, которую мы защищали, которую любили, ради которой «боролись с Западом» – ей остается только умереть»; «Та Россия, которой предстоит жить – мы эту Россию не будем любить. Мы ей не можем пожелать в этом «полете» никакого добра; мы ей пожелаем всякого «зла».



