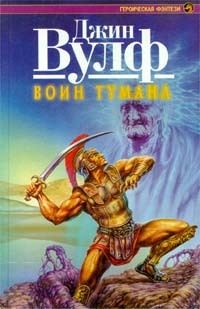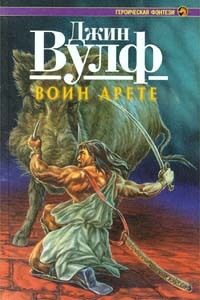Полная версия
Меч и Цитадель
– А пес только ищет, чего бы сожрать, – заметил мальчишка.
– Именно. Но тут возникает вопрос, следует ли понуждать человека к подобным раздумьям, и кое-какие особы давным-давно решили, что нет. Порой мы заставляем пса вести себя как человек – ходить на задних лапах, носить ошейник и тому подобное. А вот заставлять человека вести себя как человек мы не вправе, да и не по силам это никому. Скажи, хотелось ли тебе когда-нибудь взять да уснуть? Хотя и спать не хочется, и даже нисколько не устал?
Мальчишка кивнул.
– Это оттого, что тебе хотелось немного отдохнуть от груза человеческого, мальчишеского бытия. Бывает, я выпиваю слишком много вина, и причиной тому то же самое – желание на время перестать быть человеком. По той же причине некоторые вовсе лишают себя жизни. Тебе об этом известно?
– Или затевают такое, что до беды может довести, – откликнулся малыш Севериан.
Тон его намекал на подслушанные споры родителей: весьма вероятно, именно к таким людям относился и Бекан, иначе ему вряд ли пришло бы на ум тащить семью в столь отдаленные, столь опасные для человека места.
– Верно, – подтвердил я. – Порой это одно и то же. А люди определенного склада – и мужчины, и даже женщины – проникаются ненавистью к бремени разума, но к смерти их не влечет. Глядя на животных, они проникаются желанием стать такими же, подчиняться только инстинктам и ни о чем не задумываться. Знаешь, малыш Севериан, что заставляет тебя думать?
– Голова, – без промедления ответил мальчишка, стиснув виски ладонями.
– Но у животных – даже у самых глупых, вроде раков, волов или клещей, – тоже есть головы. То, что заставляет тебя думать, есть лишь малая часть твоей головы, а находится она здесь, внутри, несколько выше глаз, – сказал я, коснувшись пальцем его лба. – Если тебе по какой-то причине понадобится избавиться от одной из рук, за этим можно обратиться к умельцам, обученным хирургическому ремеслу, – на свете таких существует немало. К примеру, если твоя рука повреждена так, что никогда не заживет, эти люди отделят ее от тела без особого вреда для всего остального.
Мальчишка кивнул в знак понимания.
– Прекрасно. Таким же манером те же самые люди могут вынуть из головы невеликую ее часть, заставляющую тебя думать, а вот поместить вынутое назад им, сам понимаешь, уже не по силам. А если кто-то и смог бы, оставшись без этой части, ты просто не сумеешь о том попросить. Однако некоторые люди платят этим умельцам за то, чтобы эту часть вынули. Им хочется избавиться от способности думать навсегда: нередко они говорят, что хотят отвернуться от всего совершенного человечеством. После этого считать их людьми уже несправедливо, так как они превращаются в животных – в зверей, похожих на человека только с виду. Вот ты спросил, отчего они ходят голыми. Они просто не понимают, что такое одежда, а потому и не надевают ее, даже если очень замерзнут, хотя могут улечься на груду одежды или даже закутаться в нее.
– А ты тоже немного такой, как они? – спросил мальчишка, указав на мою обнаженную грудь.
Подобных мыслей мне никогда прежде в голову не приходило, и вопрос малыша Севериана застал меня врасплох.
– Так заведено в нашей гильдии, – пояснил я. – Из моей головы, если ты об этом, никто ничего не вынимал, и рубашки я прежде носил… Но – да, наверное, я вправду немного такой, как они, потому что никогда об этом не задумывался, даже если очень замерзну.
Судя по выражению лица мальчишки, его подозрения подтвердились.
– Поэтому ты и убегаешь из города?
– Нет, убегаю я не поэтому. Со мной, можно сказать, все наоборот. Возможно, эта часть моей головы выросла слишком большой. Однако насчет зооантропов ты прав: они в горах именно оттого. Становясь зверем, человек становится зверем опасным – из тех, которым не место в населенных местах, там, где фермы и много людей. Поэтому их гонят сюда, в горы. Кое-кого вывозят в эти места старые друзья, а некоторые, прежде чем навсегда отрешиться от человеческого разума, нанимают кого-нибудь. Конечно, немного думать они еще могут, как любые животные. Достаточно, чтоб прокормиться в глуши, хотя каждую зиму гибнут зооантропы во множестве. Достаточно, чтобы швыряться камнями, как обезьяны – орехами, и драться дубинками, и даже приносить добычу спутницам жизни, так как среди них, о чем я уже поминал, есть и особы женского пола. Однако их сыновья с дочерьми редко живут подолгу, и это, думаю, к лучшему: ведь рождаются-то они точно такими же, как ты и я, отягощенными бременем разума.
К концу разговора помянутое бремя изрядно отяжелело, и под его тяжестью я впервые в жизни поверил, что способность мыслить вправду может казаться людям столь же великим проклятием, как мне – безупречная память.
Я в жизни не отличался особым чувством прекрасного, но в эти минуты необычайная красота неба и горных склонов расцвечивала мои раздумья так, что вскоре мне показалось, будто я вот-вот постигну нечто непостижимое. Явившийся мне после первого представления пьесы доктора Талоса (сути его появления я в то время не понял и не могу понять до сих пор, однако все крепче убеждаюсь, что мне оно отнюдь не почудилось), мастер Мальрубий завел разговор об основах правления, хотя вопросы правления и подчинения нимало меня не заботили. Теперь же меня осенило: ведь сама воля также подчинена если не разуму, то неким сущностям ниже оного либо выше. Вот только сказать наверняка, с какой стороны от разума находятся эти сущности, было непросто. Инстинкт, разумеется, ниже… но разве не может он также становиться превыше разума? Альзабо, бросившемуся на зооантропов, инстинкт велел защитить от соперников свою добычу; Бекана же, сделавшего то же самое, инстинкт, надо думать, подвиг на защиту жены и сына. Между тем деяние оба совершили одно и то же и, мало этого, в одном и том же теле. Неужто высший и низший инстинкты шли за спиной разума рука об руку? А может, за всем нашим разумом кроется только один инстинкт и разум просто видит его под разным углом?
Но в самом ли деле инстинкт – нечто сродни «преданности персоне правителя», каковая, согласно намеку мастера Мальрубия, есть и нижайшая, «ранняя», и высшая среди основ правления? Ведь, ясное дело, не мог же инстинкт возникнуть из ниоткуда, по волшебству: вот, скажем, ястребы, парящие над нашими головами, вьют гнезда, без сомнения, инстинктивно, однако в прошлом непременно должны найтись времена, когда гнезд они еще не вили, и первый ястреб, свивший таковое, не мог унаследовать данный инстинкт от родителей, поскольку те им не обладали. Не мог подобный инстинкт выработаться и постепенно – дескать, вначале тысяча поколений ястребов приносила к месту гнездовья по одному прутику, и только после некий ястреб принес два – так как ни от одного, ни от двух прутиков гнездящимся ястребам нет ни малейшего проку. Возможно, высшая и в то же время низшая меж основ правления волей есть нечто, предшествовавшее инстинкту… а может, и нет…
Кружащие в вышине птицы выписывали на фоне неба замысловатые письмена, но предназначались они вовсе не мне.
Приближаясь к седловине, соединявшей гору с другой, куда выше, о величии коей я уже рассказывал, мы словно бы пересекали лик самой Урд вдоль линии, тянущейся от полюса до экватора, а огромная впадина, по склону которой мы с Северианом ползли, словно два муравья, вполне могла показаться поверхностью сферы мира, вывернутой наизнанку. Впереди и позади нас тянулись вдаль и вверх обширные, сверкавшие на солнце снежные поля. Под ними, точно берега скованного льдами южного моря, простирались каменистые склоны. Еще ниже зеленели поросшие жесткой травою луга в крапинках диких горных цветов, и я, прекрасно помнивший те, над которыми проходил накануне, различил сквозь голубоватую дымку их полосу, украшавшую грудь горы впереди, словно зеленый аксельбант, – залитые ярким солнцем, сосны под нею казались угольно-черными.
Седловина, куда мы спускались, оказалась совсем не такой: обширное дно ее сплошь покрывали густые заросли горного леса. Поросшие глянцевитой листвой, деревья тянули чахлые кроны на три сотни кубитов ввысь, вслед угасавшему солнцу. Среди них, поддерживаемые живыми, возвышались их умершие братья в колышущихся на ветру погребальных пеленах из лиан. Вблизи от небольшого ручейка, у которого мы остановились на ночлег, растительность уже утрачивала горную деликатность, приобретая некоторое сходство с пышной зеленью низменностей. Здесь получивший возможность отвлечься от ходьбы и карабканья по кручам маленький Севериан ткнул пальцем в сторону седловины и спросил, пойдем ли мы туда, вниз.
– Завтра, – ответил я. – Скоро стемнеет, а сквозь эти джунгли лучше бы идти днем.
Услышав слово «джунгли», мальчишка вытаращил глаза:
– А там опасно?
– Сказать по правде, не знаю. Судя по тому, что я слышал в Траксе, москитов там куда меньше, чем в предгорьях, да и кровососущие летучие мыши нам, скорее всего, докучать не будут – кое-кого из моих друзей такие кусали; говорят, ощущения не из приятных. Однако там живут огромные обезьяны, и хищные кошки, и так далее…
– И волки?
– И волки, конечно же. Только волки водятся и здесь, наверху. И на высоте твоего дома, и даже гораздо выше.
Помянув дом мальчишки, я тут же прикусил язык, но было поздно: изрядная доля не так давно вернувшейся к нему жизнерадостности исчезла, как не бывало. На время он глубоко о чем-то задумался, а после сказал:
– Когда эти люди…
– Зооантропы, – поправил я.
– Когда эти зооантропы пришли и напали на маму, ты прибежал к нам на помощь сразу же, как только смог?
– Да, – подтвердил я. – Сразу же, как только… смог.
В каком-то смысле это было правдой, однако на сердце заскребли кошки.
– Ладно, – сказал мальчишка, укладываясь на краю расстеленного мной одеяла, а я прикрыл его другим краем. – А звезды ярче становятся, верно? Всегда ярче становятся, когда солнце уйдет.
Улегшись рядом, я поднял взгляд к небу.
– На самом деле оно никуда не уходит. Урд просто отворачивает от него лик, вот мы и думаем, будто солнце ушло. Если ты от меня отвернешься, я тоже никуда не исчезну, хоть для тебя и стану не виден.
– Но если солнце на своем месте, отчего звезды светятся ярче?
Судя по тону, малыш Севериан был страшно доволен собственной находчивостью в споре, и я, чувствуя не меньшее удовольствие, понял, отчего мастер Палемон так любил разговаривать со мной в его годы.
– Под ярким солнцем, – заговорил я, – пламя свечи становится почти невидимым, вот и звезды – на самом-то деле такие же солнца – словно бы тускнеют таким же образом. Согласно картинам, написанным в древние времена, когда наше солнце светило намного ярче, звезд было не разглядеть до самых сумерек. А в старинных легендах – у меня в ташке хранится книга, где многие из них пересказаны, – полным-полно волшебных созданий, медленно исчезающих и точно так же медленно появляющихся. Несомненно, все эти сказки наши предки слагали, глядя на звезды.
– Вон Гидра, – сказал малыш Севериан, ткнув пальцем в небо.
– Думаю, ты прав, – согласился я. – А другие созвездия знаешь?
Мальчишка отыскал в небе Крест и Великого Тельца, а я показал ему Амфисбену и еще с полдюжины фигур.
– А вон там, чуть выше Единорога, – Волк. Есть еще и Малый Волк, но что-то мне его не найти.
Волчонка мы нашли вместе, у самого горизонта.
– Совсем как мы с тобой, правда? Большой Волк и Малый Волк. А мы с тобой – два Севериана, большой и маленький.
С этим я согласился, и мальчишка еще долго разглядывал звезды, жуя полученный от меня кусок вяленого мяса.
– А где та книга со сказками? – наконец спросил он.
Я показал ему книгу.
– У нас тоже книга была. Мама ее нам с Северой читала.
– Севера была тебе сестренкой, верно?
В ответ он кивнул.
– Мы были близнецы. Двойняшки. Большой Севериан, а у тебя сестры были?
– Не знаю. Вся моя семья погибла. Погибла, когда я был совсем маленьким, куда младше тебя. Тебе какие сказки больше по нраву?
Мальчишка попросил позволения посмотреть книгу, а получив ее, перевернул несколько страниц и отдал мне.
– Совсем не такая, как наша.
– Я так и полагал.
– Погляди, нет ли там сказки о мальчике, его лучшем друге и брате-близнеце. Там еще волки должны быть.
Я принялся быстро листать страницы, скользя взглядом по строчкам наперегонки с угасающим светом.
XIX. Сказка о мальчике по прозванию Лягушонок
Часть первая. Раннее Лето и ее сын
Некогда, в давние-давние времена, на вершине горы вдали от берегов Урд жила да была красавица по имени Раннее Лето. Была она королевой своей страны, но король ее был человеком суровым, немилосердным, а оттого, что Раннее Лето ревновала его, ревновал королеву тоже и казнил смертью всякого, кого ни примет за ее возлюбленного.
Однажды гуляла Раннее Лето в саду и увидала прекраснейший из цветков совершенно незнакомой ей разновидности. Был он алее и пах куда слаще любой розы на свете, однако на прочном, гладком, точно слоновая кость, стебле цветка не нашлось ни единой колючки. Сорвав цветок, королева унесла его в укромное место, улеглась на траву полюбоваться им, и мало-помалу цветок показался ей совсем не цветком, а юношей, именно таким, какого она и желала – стройным, сильным, нежным, как поцелуй. Некие соки цветка проникли в чрево ее, и сделалась королева непраздна, однако королю сказала, что дитя зачала от него, и супруг ей поверил, поскольку стража приглядывала за королевой и день и ночь.
В положенный срок родился у нее мальчик, согласно желанию матери нареченный Вешним Ветром. Ко дню его появления на свет король собрал во дворце всех изучающих звезды – не только ученых жителей вершины горы, но и величайших волхвов Урд, – дабы те сообща составили для него гороскоп. Долго корпели они над картами, девять раз собирались на тайный, закрытый для посторонних конклав и, наконец, объявили, что в битве Вешний Ветер будет неодолим, и ни одно рожденное от него дитя не умрет, пока не вырастет взрослым, и король остался сими пророчествами весьма доволен.
Шло время, Вешний Ветер рос, и мать его с затаенной радостью отмечала, что более всего на свете сыну нравится растить цветы да фрукты. Любая былинка в его руках цвела пышным цветом, а лучшим на свете мечам он неизменно предпочитал прививочный нож. Однако, когда он вошел в силу, в стране их началась война, и юный Вешний Ветер взялся за копье и щит. Нравом он был тих, во всем повиновался королю (коего почитал отцом, а тот в своем отцовстве тоже нимало не сомневался), и посему многим подумалось, будто пророчество окажется лживым. Не тут-то было! В самом разгаре битвы он сохранял хладнокровие, рисковал с умом, осторожничал без боязни; ни одному генералу не приходило в голову столько стратегических замыслов и военных хитростей, сколько ему, и ни один офицер не нес службы усерднее. Прекрасно вымуштрованные солдаты, ведомые им на врагов короля, казались людьми из бронзы, движимыми внутренним пламенем, а верны ему были так, что последовали бы за ним даже в Мир Теней – в земли, лежащие дальше всех прочих от солнца. Вскоре начали люди говорить: Вешний Ветер-де рушит башни, Вешний Ветер опрокидывает корабли, – хотя Раннее Лето подобного вовсе не ожидала. И так уж вышло, что по делам военным Вешнему Ветру приходилось частенько наведываться на Урд, где познакомился он с двумя братьями, королями. У старшего имелось около полудюжины сыновей, у младшего же – единственная дочь, девочка по имени Птица Лесная. Когда девочка подросла и вошла в пору зрелости, отец ее был убит, а дядюшка, дабы она никогда не родила сыновей, наследников отцовского трона, вписал ее имя в реестр жриц-девственниц. Поступок сей вверг Вешнего Ветра в крайнее недовольство, так как принцесса была красавицей, а отец ее – его добрым другом. И вот однажды, отправившись на Урд в одиночку, увидел он там Птицу Лесную, спящую у ручья, и разбудил ее поцелуями.
Совокупившись, зачали они двоих сыновей, а прочие жрицы ордена помогли Птице Лесной скрыть от посторонних глаз рост близнецов в ее чреве от дядюшки, нового короля, однако рожденных младенцев спрятать уже не могли. Не успела Птица Лесная взглянуть на них, как жрицы уложили братьев в лукошко для веяния зерна, устланное одеялами в узорах из перьев, отнесли к тому самому ручью, где нежданно встретил ее Вешний Ветер, и пустили лукошко в воду, вниз по течению.
Часть вторая. Как Лягушонок нашел новую мать
Далеко поплыло лукошко то – и пресной водой, и соленой. Другие младенцы погибли бы в пути, но сыновья Вешнего Ветра не могли умереть, так как еще не выросли взрослыми. Морские чудища в броне панцирей плескались вокруг лукошка, огромные обезьяны швыряли в него палками да орехами, но лукошко как ни в чем не бывало плыло себе вперед, пока, наконец, не приблизилось к берегу там, где две бедных сестры стирали белье. Увидев его, добрые женщины закричали, а когда на крик их никто не откликнулся, заткнули подолы юбок за пояс, вошли в реку и вытащили лукошко на берег.
Нарекли мальчиков, принесенных водой, Рыбкой и Лягушонком, а когда сестры показали обоих мужьям и всем сделалось очевидно, что оба они – малыши отменной силы и красоты, каждая из сестер взяла одного себе. Сестра, выбравшая Рыбку, была женой пастуха, а муж сестры, выбравшей Лягушонка, рубил лес на продажу.
Сестра та взялась заботиться о Лягушонке как о родном и кормить его собственной грудью: волею случая она недавно потеряла новорожденное дитя. Когда муж ее отправлялся рубить дрова в дикой чащобе, она несла малыша за спиной, привязанного платком; оттого-то сказители, ткачи преданий, и называют ее сильнейшей женщиной на свете, ибо она несла на спине – ни много ни мало – империю.
Так миновал год. К концу его Лягушонок выучился твердо стоять на ногах и делать по паре шагов. Однажды вечером дровосек с женой сидели у костерка на поляне среди дремучего леса, и, пока жена дровосека готовила ужин, нагой Лягушонок подошел к костерку и остановился погреться возле огня. Тогда лесоруб, кряжистый, добродушный силач, спросил его:
– Нравится?
А Лягушонок, хотя никогда прежде не говорил, кивнул и ответил:
– Красный Цветок.
Говорят, в тот самый миг Раннее Лето встрепенулась под одеялом на вершине горы, за пределами берегов Урд.
Дровосек с женой окаменели от изумления, но времени, чтоб обсудить друг с другом случившееся, либо вытянуть из Лягушонка еще что-нибудь, либо хоть вообразить, как да что расскажут после, при встрече, пастуху с женой, у них не оказалось. Из чащи невдалеке от поляны донесся ужасающий клич – те, кто слышал его, утверждают, будто ничего более устрашающего не услышать на всей Урд. Названия у него нет, так как из слышавших этот клич в живых остались считаные единицы, однако похож он отчасти на гудение пчел, отчасти на мяуканье кошки величиною с корову, отчасти же – на горловой гул, с коего начинают обучение чревовещанию, исходящий словно бы разом отовсюду. То была песнь смилодона, подкравшегося вплотную к добыче, песнь, даже мастодонтов повергающая в такой ужас, что эти громады нередко пускаются бежать не в ту сторону, и враг наносит им удар со спины.
Несомненно, Вседержителю известны все тайны на свете. Вся наша вселенная есть лишь невероятно длинное слово, изреченное им, и немногое из происходящего в мире происходит не по слову сему. Волею Вседержителя невдалеке от костра воздвигся и холмик, накрывший гробницу, построенную в дни седой древности, и хотя бедный дровосек с женой о том даже не подозревали, именно там устроила себе дом пара волков. Дом у них вышел на славу: низкая кровля, толстые стены, галереи, освещенные зелеными лампами, свисающими с потолка среди разрушенных памятников и разбитых урн, – одним словом, все, что только волкам по сердцу. Там и сидел Отец Волк, обгладывая бедренную кость корифодона, а Мать Волчица, жена его, прижимала к груди волчат. Услышав невдалеке пение смилодона, прокляли они его на собственном, Сером Наречии, как могут проклясть кого-либо лишь волки, ибо никто из чтущих закон зверей не станет охотиться возле дома другого охотника, а волки прекрасно ладят с луной.
– Что же за добычу такую Мясник, безмозглый убийца бегемотов, – заговорила Мать Волчица, покончив с проклятием, – мог отыскать здесь, в то время как ты, о муж мой, чующий даже ящериц, резвящихся на камнях гор далеко за пределами Урд, довольствуешься сухой костью?
– Я не питаюсь падалью, – коротко отвечал Отец Волк. – И не ищу червей в траве поутру, и не караулю лягушек на мелководье.
– Пожалуй, ради них и Мясник песни бы не завел, – рассудила его жена.
Тогда поднял Отец Волк голову, потянул носом воздух:
– Он охотится на сына Мешии с дочерью Мешианы. Сама знаешь, такое мясо на пользу никому не пойдет.
И Мать Волчица согласно кивнула, ибо и впрямь знала: из всех живых тварей лишь сыновья Мешии в отместку за убийство одного из своих истребляют всю стаю. Так повелось, потому что Вседержитель даровал им Урд, а они отвергли его щедрый дар. Завершив песнь, Мясник взревел так, что с деревьев посыпались листья, а затем завизжал, так как проклятия волков обладают особой силой, пока в небе светит луна.
– И что за беда с ним стряслась? – спросила Мать Волчица, вылизывая мордочку одной из дочерей.
Отец Волк вновь потянул носом воздух:
– Паленая шерсть! Горелое мясо! Он прыгнул прямиком в их костер!
Тут он и жена его рассмеялись – по-волчьи, беззвучно, обнажив все клыки до единого, а уши их поднялись торчком, точно шатры в пустыне: оба слушали, как Мясник ломится сквозь подлесок в поисках жертвы.
Дверь в волчий дом оставалась открытой, так как, когда хоть один из взрослых волков дома, им нет дела, кто к ним войдет, а выбраться после наружу из вошедших удается немногим. Из-за порога струился внутрь лунный луч (луна в волчьем доме – испокон веку желанная гостья), но вдруг в доме стало темно. В дверях остановился малыш, быть может, немного напуганный темнотой, но чуявший запах теплого молока. Отец Волк угрожающе заворчал, но Мать Волчица ласково, по-матерински окликнула мальчика:
– Входи, входи, маленький сын Мешии! Здесь и тепло, и чисто. Здесь найдется для тебя и молоко, и ясноглазые, быстроногие, лучшие во всем мире товарищи для игр.
Услышав это, мальчик переступил порог, и Мать Волчица, отодвинув в сторонку досыта насосавшихся молока волчат, прижала его к груди.
– Что проку нам в этаком создании? – удивился Отец Волк.
Мать Волчица от души рассмеялась:
– Обсасываешь кость добычи прошлого месяца и еще спрашиваешь? Разве не помнишь, как рядом бушевала война, как воинства принца Вешнего Ветра прочесывали леса? В то время ни один из сынов Мешии не охотился на нас: все они были заняты охотой друг на друга. А после их битв из дому вышли мы – ты, я, и весь Волчий Сенат, и даже Мясник, и Тот, Кто Смеется, и Черная Смерть – и долго бродили среди мертвых да умирающих, выбирая, что пожелаем.
– Твоя правда, – согласился Отец Волк, – принц Вешний Ветер сделал нам много добра. Однако этот волчонок Мешии вовсе не он.
Но Мать Волчица лишь улыбнулась и ответила так:
– Я чую дым битвы на его коже и в шерстке его головы. – (То был дым Красного Цветка.) – К тому времени, как из врат его стены выйдет маршем первая колонна, мы с тобой станем прахом, но эта первая породит еще тысячу, и наши дети, и их дети, и дети их детей не будут знать голода.
На это Отец Волк согласно кивнул, так как знал, что Мать Волчица куда мудрее него: если он чуял все, лежащее за пределами берегов Урд, то она ясно видела, чему суждено сбыться на будущий год, после больших дождей.
– Назову его Лягушонком, – сказала Мать Волчица, – ведь Мясник в самом деле караулит лягушек на мелководье, как ты и сказал, о муж мой.
Она полагала, будто сказала так, чтобы польстить Отцу Волку, столь охотно уступившему ее желаниям, но нет, все дело было в крови народа с вершины горы, текущей в жилах мальчишки: имена тех, в ком течет эта кровь, недолго остаются тайной.
Снаружи раздался дикий, протяжный хохот и визг Того, Кто Смеется.
– Он там, господин! Там, там, там! Вот он, след, вот, вот, вот! Сюда ведет, к двери!
– Вот видишь, – заметил Отец Волк, – что выходит, когда поминаешь зло? Назвать – значит призвать. Таков закон.
С этим он, сняв со стены меч, проверил пальцем остроту лезвия. Дверь снова заслонила тень. Проем двери был узок, ибо широкие двери ведут только в храмы да в дома глупцов, а волки были вовсе не глупы. Лягушонок закрыл собой большую часть проема, а Мясник загородил его весь, развернулся боком, чтобы войти, пригнул книзу огромную голову. Из-за толщины стен дверь казалась туннелем.
– Что ты здесь ищешь? – спросил Отец Волк, лизнув боковину клинка.
– Свое и только свое, – отвечал Мясник.
Смилодоны бьются парой кривых ножей, а этот был куда крупней Отца Волка, однако драться с ним в такой тесноте ничуть не хотел.