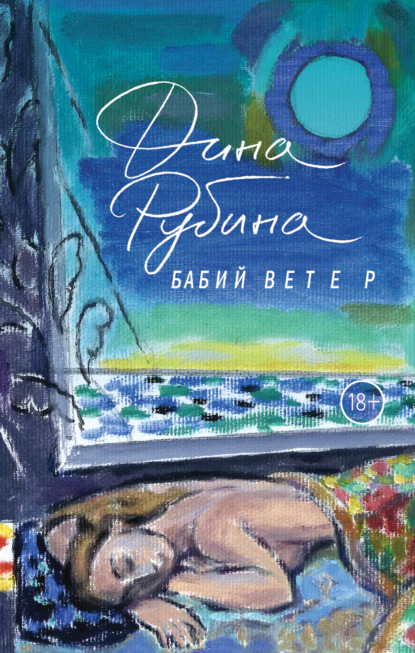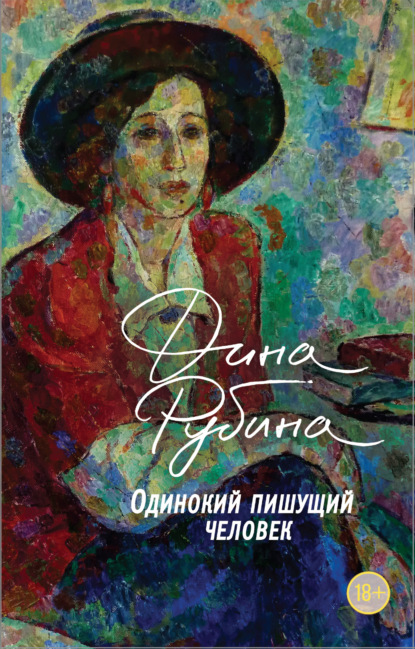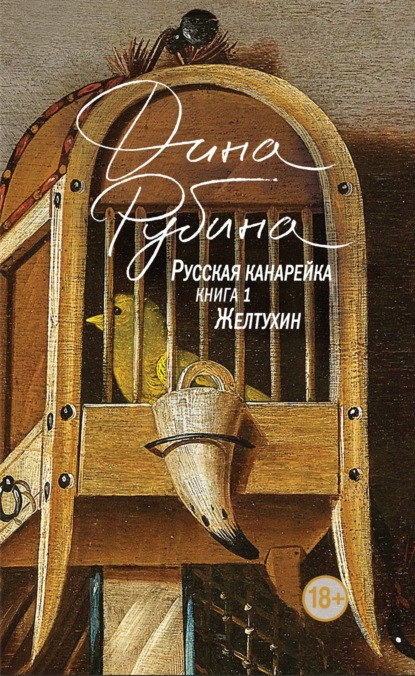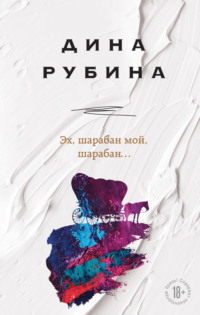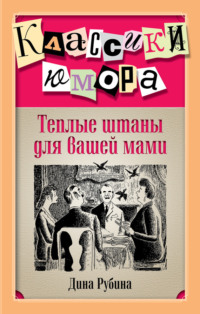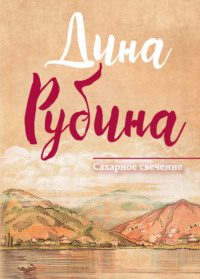Полная версия
Русская канарейка. Голос
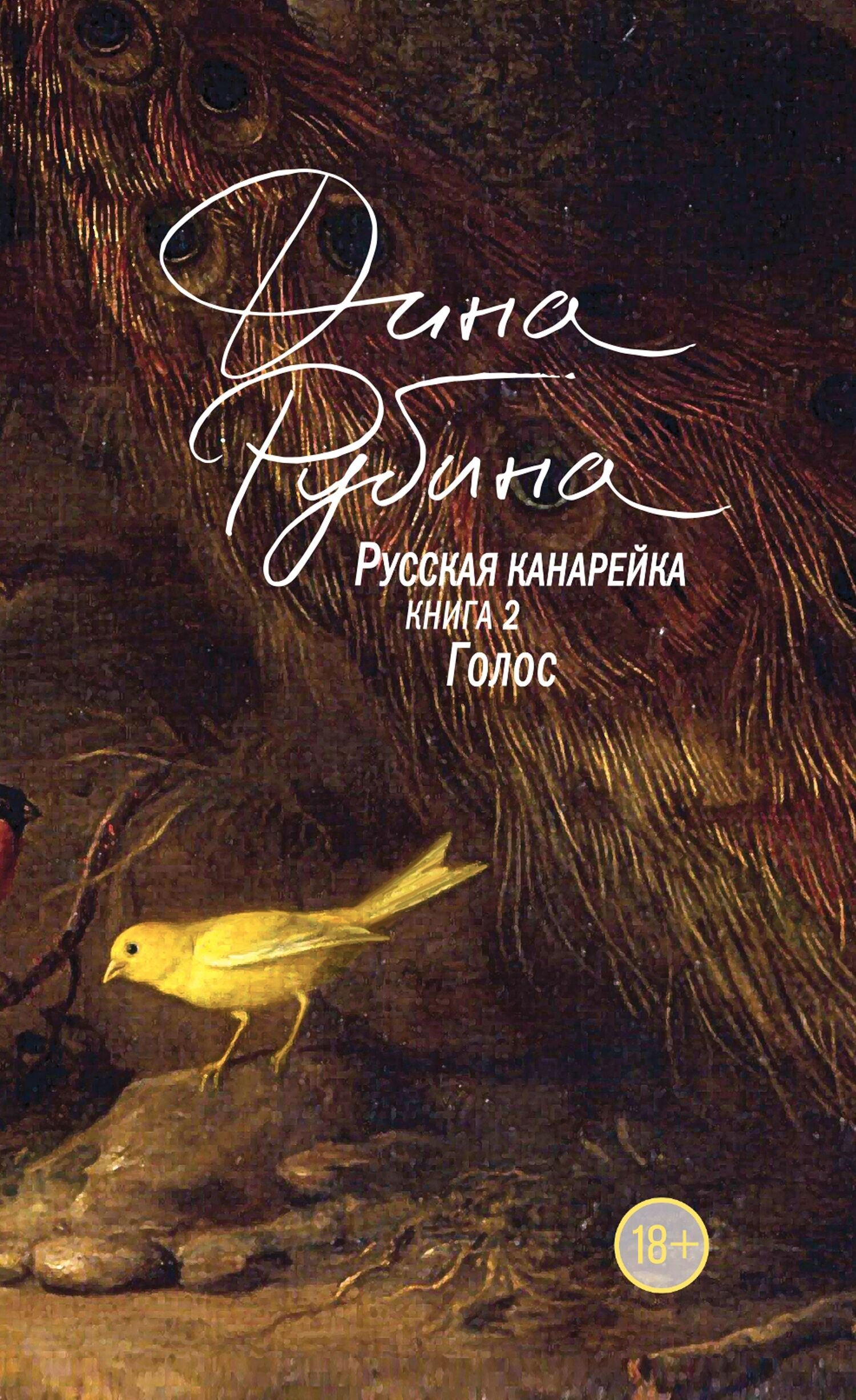
Дина Рубина
Русская канарейка. Голос
© Д. Рубина, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Охотник
Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанную дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.
Снаружи все выжигал ослепительный полдень; здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь над стаей льняных скатертей.
И сразу в глубине зала призывным ковшом поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на месте ли бугристая плешь.
Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер – гестаповец в культовом сериале советских времен.
Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же: голова на мощные плечи посажена с «устремлением на противника», в вечной готовности к схватке. Так бык вылетает на арену, тараня воздух лбом.
И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как по-хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную полосочку, костюме. На месте твоя плешь, не заросла сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы… Что ж, будем аукаться в рифму.
Собственный купол молодой человек полировал до отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь – отдирать парик от висков после каждого спектакля!
Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской ткани.
– Ты уже заказал что-нибудь? – спросил молодой человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея в весе пера, увертливость матадора.
Пожилой господин не приходился ему ни отцом, ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем языке местоимения «вы».
Впрочем, они сразу перешли на английский.
– По-моему, у них серьезная нехватка персонала, – заметил Калдман. – Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.
Его молодой друг расхохотался: снующие по залу официанты в бордовых жилетах и длинных фартуках от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный тон, каким это было сказано.
«Насколько же он меняется за границей!» – думал молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение респектабельности, на добродушное лицо с мясистым носом в сизых прожилках, на осторожные движения давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить удивление, восторг или «поведать нечто задушевное». А эта гранитная лысина в трогательном ореоле пушка цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее – непременная дань Вене,его Вене, в которой он имел неосторожность появиться на свет в столь неудобном 1938 году.
Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.
Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.
На деле должность Натана Калдмана была не столь уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений в государственном комитете по борьбе с террором – структуре закулисной, малоизвестной и общественности и журналистам (как ни трудно вообразить это в наш век принародно полоскаемого белья), – в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.
«Работенка утомительная, – говаривал Калдман в кругу семьи. – Чем я занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороныэтих законодательных болванов…»
Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте – уйти на покой.
Но знаменитый его жест – гуляющая по булыжному черепу медвежья лапа – жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за верхушкой и европейскими связными «Черного сентября»).
– Что у тебя за блажь – тащить людей в это заведение? – пробурчал Калдман. – Центр города, проходной двор…
Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман – лицом к входной двери, его молодой друг – по левую руку, чтобы сквозь надраенные до бесплотности стекла входных дверей видеть, что происходит на улице за углом, – максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону. Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и то же время совершенно случайно, как уже бывало и раньше. Подразумевалось, что Вена – хороший город. Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво вплетен в туристическое многоголосье.
Снаружи парило, и беспорядочная, разноязыкая, штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа на небольшой площади томилась на тихом огне.
На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian» крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса, являлось наработанным каучуком узловатых мышц. Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком – так, на всякий случай.
Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам: «Дуби[1] Рувка» знаменит был тем, что видел не только затылком, но любой, казалось бы, частью неуклюжего с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чуял так, как парфюмер чует в шарфике, случайно найденном за диваном, остатний запах духов прошлогодней любовницы.
И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к тем двоим, что сидели в глубине ресторанного зала, не имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у въезда в подземную парковку задолго до того, как двое мужчин засели в ресторане.
Бронзовые атлеты вообще проходили по другому ведомству и на площадь являлись вот уже две недели в рамках подготовки некой операции, которую никто, упаси боже, не собирался доводить до логического конца в этом чудесном городе.
Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный передатчик, но, если понадобится, и «глок» – так, на всякий случай.
В последние годы на улицах европейских городов встречается множество подобных живых скульптур.
– И если они такие шикарные, что имеют аж белый рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер в эпоху изменения климата? – поинтересовался Натан, промокая салфеткой борозды морщин на лбу. – В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ́ Иегуда можно дышать.
– Зато здесь тихо, – заметил его молодой друг. – Тихо и культурно, особенно днем. А наМахан-юда от воплей торгашей можно рехнуться. На твоем месте я просто снял бы пиджак, – добавил он. – Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.
Он поймал из рук пролетавшего официанта карты меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: форель на гриле.
Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая худобу смуглого лица, его можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему, ему совсем не мешала эта явнаялегковесность – наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией человека, немало часов уделившего когда-то изучению приемов «крав мага»́, разновидности жесткого ближнего боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.
«Ты бьешь один раз, – говорил его инструктор Сёмка Бен-Йорам. – Бьешь, чтобы убить. Никаких “вывести из игры”, “отключить”, прочие слюни. Если целишь в голову, то уж в висок. Если в глаз – ты его выбиваешь».
Смешное имя – Сёмка Бен-Йорам, придуманное, конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана, каких на свете считаные единицы; сидя за столом, он поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в Тель-Авивской театральной школе, аминь.
И каждый раз надеешься, что все это осталось в прошлом.
Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке кресла.
– Во-первых, – проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, – здесь бывал вождь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь рассказывал тебе, что у меня были одновременно две разные – абсолютно разные – любимые прабабки? Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на водопой.
– Вообразить прабабку за белым роялем?
– Это был не рояль… – Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. – Не рояль, а такое, знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антиквара. И тапер – заезженная кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с галереей, вот эту стеклянную купольную крышу, и на крахмальных скатертях – красно-желтые ромбы от оконных витражей… И канун Первой мировой, и прабабке – четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех лет, ты бы непременно влюбился. Это был счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы – она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке… – Он поднял глаза на собеседника: – Кстати, ты знаешь, для чего в восточных лавках вешают зеркала?
– Ну-ну, – бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его распоряжении сегодня времени достаточно; вполне достаточно и дляболтовни, и для дела. – Давай, просвети меня, умник.
– Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким. Чтобы он пел любовные песни собственному отражению.
Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведьэтому никогда не нужны часы на руке. Как это называется: встроенное время? Чувство времени, тикающее в организме, даже во сне. Он и на встречу явился минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышколить, но ведь у этого оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу!
Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить, он всему быстро учится. Все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модногокитча, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов. Все прекрасно подобрано вплоть до светло-коричневых мокасин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму – незаметность превыше всего, хотя, к сожалению, именно он слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали поддергивать до локтей, точно парикмахер перед мытьем головы клиенту?
Да: из своей рожицы арабчонка, какие толпами бегают по мусорным пустырям Рамаллы или Хеврона, он выпестовал, вылепил неповторимого себя: экстравагантного, нарочито утонченного – один этот бритый череп египетского жреца чего стоит! А ухоженные, как у женщины, руки, непринужденно-рассеянно держащие карту вин! Поглядишь – так ничего, кроме нотных партий или джезвы с кофе им не приходилось переносить с места на место… Гедалья уговаривает меня «отказаться от этого неуправляемого молодчика с авемарией в зубах». Гедалья не прав. Ценностьавемарии в том, что она подлинна, как подлинный бриллиант. Ведь самое драгоценное в любой легенде – отсутствие таковой, ее полное растворение в реальной жизни. Да, он сумасброден и непредсказуем, любит неоправданный риск (то, что он выкинул в Праге, вообще не поддается ни инструкциям, ни осмыслению: выбрав наблюдательным пунктом ювелирную лавку, изображал перед продавцами чокнутую старушенцию да еще выторговал браслетик и даже, кажется, напоследок спел им арию Керубино – то есть сделал все, чтобы остаться в памяти навеки: солист! бурные аплодисменты!).
Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преображениям и перевоплощениям (что ж, и у той – сценические истоки), как и сам его голос, наводит любого знакомца и незнакомца на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все стереотипы онаших методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с таким заметным?.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь – разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?
Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды онарабом прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав на суровые условия жизни.
Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.
Стоит ли его тревожить – в который раз?
Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом…
…и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной – от матери и бабки – язык.
– Пожалуй, мы оба склоняемся к форели… Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветуетHerr Ober из вин – Riesling или Grüner Veltliner?
Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»[2]. Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.
– К форели я бы взялвайс гешпритц, – учтиво заметил официант. – Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.
– Да-да, – поспешил вставить молодой человек. – Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием…
Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:
– Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде, слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда тысфилировал портаменто с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Браво, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.
– После «Серенады» шла «Баркарола»? – вскользь поинтересовался тот.
– Да-да. И тоже великолепно!
Леон удовлетворенно улыбнулся:
– Благодарю, ты мне льстишь.
Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и блестящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймают! Ну да, «венская кровь» – чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном – пересчитай пальцы!» – фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрияков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игристый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест – давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.
– Ты мне льстишь, Натан, – повторил он. – Я еще загоржусь.
«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.
– Какая там лесть… Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоем полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь… очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира… – Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. – Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорей всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или ублажал очередную телку, а? – Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: – Если б ты знал, как я люблю Шуберта.
– Кто ж его не любит, – покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговоро наших музыкальных баранах, жди огро-омного сюрприза.
– Не скажи! – подхватил тот. – Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.
– Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса – злобная пародия… Ты бы все-таки снял пиджак? – заботливо повторил Леон. – Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.
– Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.
– Сними, сними. Наплюй на благопристойность.
– Кстати, все собирался спросить… – Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. – Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?
– Что-о? Не смеши меня. Господи, и придет же человеку в голову…
– Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя – как родной… – Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.
…а венчик седого пуха над лысиной – что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: этакая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело…
– …а в паузах подыграл бы себе на кларнете – очень эффектно!
– Оставь. Мойамбушюр сдох давным-давно.
– Не верю!
– Ну, может, поплюй я в дудку месяц-другой часиков по десять в день, что-то бы и восстановилось… на уровне второго кларнета провинциальной российской оперы.
И с внезапной досадой понял: Натан завел свою обычную серенаду о вечном-нетленномперед делом! И как у гадалки в картах, это всегда — к дальней дороге и проклятым хлопотам. Гляньте-ка на мечтательного людоеда: кого он хочет перехитрованить? Карл у Клары украл кораллы, забыв про собственный кларнет? Нет уж! Нет, черта с два! На сей раз – кончено.
Он не ошибся: обежав взглядом просторно развернутый в зеркалах и колоннах зал ресторана, постепенно заполнявшийся публикой (время обеденное, на официантов жалко смотреть, вентиляторы в недосягаемой вышине потолка молотят лопастями душный воздух), Калдман проникновенно спросил:
– А ты замечал, насколько призрачен мажор в этих минорных пьесах – и в «Серенаде», и в «Баркароле»? Каким отзвуком нездешности он там вибрирует…
– М-м-м, допустим… – И нарочито безмятежным голосом: – Попробуй их булочки, они их сами пекут.
– Не задумывался – почему?
Ну, поехали… Барышня – вот кто был бы уместен за этим столом. Как и вся ее компашка во главе с незабвенным «Сашиком». Вот кого извлечь бы сейчас из вечности хотя б минут на десять. Проветрить и взбодрить, угостить форелью… Кстати, где эта чертова форель? Что-то сегодня они долгонько возятся там, на кухне.
–Ингелэ манс…[3]
…а вот когда он переходит на идиш, тут караул кричи: несметная рать улетевших в дым поднимает свои истлевшие смычки и принимается оплакивать мир на бесплотных струнах… Господи, сколько можно извлекать этот старый фокус из одних и тех же до дыр протертых штанов!
– Певцу,ингелэ манс, следует напрягать не только связки, но изредка и мозги, – насмешливо-мягко продолжал Натан. – Все мелодическое обаяние Шуберта кроется в его сверхидее, или, как говорят сегодня, в его обсессии: в неудержимом влечении к счастью.
– Ну почему же непременно – обсессия? – миролюбиво возразил Леон.Главное, не расслабиться и не попасть в расставленные сети. – Стремление к счастью естественно для любого человеческого существа.
– Ха! Гляньте, кто это говорит, и попробуйте позлить его в ближайшей подворотне – таки вы из нее не выползете! Именно, что обсессия, навязчивое влечение, то, что Дант называлil disio! Я скажу тебе, откуда этот мучительный восторг у подслеповатого толстяка в прохудившихся туфлях…
– …и в разбитых очках, что для Шуберта уж и вовсе означало финансовую катастрофу, – жалостливым тоном подхватил Леон. Он стал раздражаться. – Так откуда же мучительный восторг у этого бледного недоноска, влачащего голодную жизнь в каморке на нетопленом чердаке?
– А ты не иронизируй. Вспомни историю Европы того периода, – терпеливо продолжал Калдман. – Отбушевала Французская революция, и за ничтожно короткий срок дважды сменились декорации: обезумевшая чернь снесла Бастилию, обезглавила венценосную особу и – «свобода-равенство-братство!» – запустила гильотину в бесперебойный режим работы. Не прошло и десятилетия, как Корсиканец замахнулся на перекройку мира. Коротышка заморочил даже гениального Бетховена, так что очарованный глухарь посвятил ему Третью симфонию…
– Натан, – что ты затеял, умоляю тебя, ближе к делу?
– Я призываю тебя вообразить эпоху!
– О’кей…
– Этот момент: стоило закончиться революционно-героическому кошмару, как маленький, никому не интересный обыватель остается наедине со своими горестями и мечтами. Есть такой немецкий роман: «Маленький человек, что же дальше?»… И вот тут-то – в тупой меттерниховской Вене, где торжествовали две сестры, тайная полиция и предварительная цензура, а невиннейший намек на вольномыслие пресекался на корню, – тут и выходит на сцену близорукий застенчивый толстячок, неприметный гений здешних мест. Он сбрасывает музыку с котурнов классицизма, чтобы – особенно в изумительных песнях – впервые с сочувствием вглядеться в обычного человека с его маленькими дешевыми радостями, с его печалями, и, главное, с мучительной страстью, которая ранит сердце, даже если… Послушай, ведь именно Шуберт, никто другой, распахнул клетку классического периода-восьмитакта, чтобы оттуда выпорхнула гибкая вольная мелодия, отражая тончайшие порывы человеческой души…
Едва ли не в восхищении Леон уставился на увлеченного Калдмана. Он бы решил, что тот подзубрил текст из какого-нибудь учебника по истории музыкальных форм и стилей, если б много раз не бывал свидетелем подобных восторженных и складных монологов. И если рассудить здраво, что в этом такого странного: пожилой интеллектуал, европеец до мозга костей, утонченный любитель классической музыки, завсегдатай концертов, а в молодости и сам недурной пианист всего лишь излагает одну из любимых своих музыкальных теорий о любимом Шуберте.