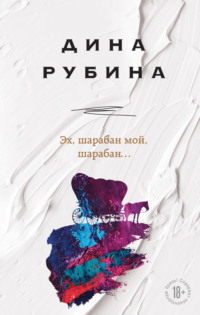Полная версия
Синдикат
– Ты меня введешь в курс дела? Расскажешь все, объяснишь?
– Да что ты суетишься? – спросил он, поморщившись.
Это был осанистый пожилой господин, все еще красавец, в прошлом – издатель, книжник, переводчик, то есть, как и я, всю жизнь балансирующий на канате штукарь. И вот лишь в последние годы повезло ему, вывезла кривая прямиком в Синдикат: и заработать, и Москву повидать, и себя показать спустя годы отсутствия в России. Он только вошел в эту жизнь, обустроился, обвыкся, восстановил старые знакомства, завел новые… Но ударил колокол, – Синдикат сменил часовых. А он не хотел, не мог с этим смириться! И потому говорил неохотно, отводил глаза и, вероятно, мечтал о том, чтобы я провалилась куда-нибудь со своей свежей истовостью.
– Не торопись, не рви удила! Погоди, скоро тебя затошнит от собственной готовности плясать служебную лезгинку перед каждым кретином…
Он подозвал официанта, заказал кофе, ореховый торт и велел мне достать ручку и листок бумаги.
– Во-первых, наш департамент… Это новое образование, изобретено и введено в действие Иммануэлем, как и все новшества в Синдикате. Понимаешь, времена, когда народ сюда ехал, отошли в прошлое. Евреи вострят лыжи куда угодно – хоть к людоедам в Новую Гвинею, не говоря уж о Германии или Канаде… А здесь, ко всему еще, новая войнушка затевается. Короче, Иммануэль… да знаешь ли ты Иммануэля?
– Говорят, он мой непосредственный начальник? Похож на поджарого пса с весело закрученным хвостом, да?
– Скорее, на бешеного Полкана, которому семь верст не крюк… Так вот, Иммануэль прикинул, что надо бы организовать такой департамент, где бы людей не строили, не орали с порога: «Евреи, пакуйте чемоданы!». Думаю, и к тебе они обратились не случайно: ты человек публичный, свободный, трепливый, мелькаешь там-сям… Видишь, другие-то зубрят гранит идеологии на спецкурсах, потом проходят еще крутой отбор, а после их ждут кулачные бои за место назначения… Тебе же карету подали к подъезду, пригласили на особых основаниях, чтобы ты публику тамошнюю обрабатывала культурненько, с умом и вкусом, невзначай, намеком…
– Что значит – намеком? – спросила я.
– Ну, скажем, устраиваешь ты семинар. И называется он не в лоб, не грубо: «Восхождение в Страну», – а как-нибудь культурно, вроде бы ты со своим департаментом имеешь к Синдикату опосредованное отношение… Евреи в Москве высокомерны и пугливы, как лоси. Они как почуют, что их хотят загнать в загоны, тут же взбрыкивают… А ты им – «Спокойно, ребята, я – своя, я, типа, сама отвязный писатель, служу здесь по части фенечек-тусовок-пикников…»
– Каких это пикников?
– Ну, каких… А вот ты их за город вывозишь, воздухом подышать…
– Воздухом?! Но это ведь уйма казенных денег!
– Это уйма американских денег. А у тебя бюджет, и если ты его не потратишь к концу года, в будущем году его сократят… Райкина еще помнишь, – рояль на овощную базу?
Я ужасно разволновалась.
– Но ведь можно тратить деньги на нужные вещи!
Он ложечкой аккуратно отвалил кусок орехового торта, поддел его и осторожно понес ко рту. Кусок был слишком велик, он подрагивал и грозил рухнуть на скатерть… но все же благополучно достиг седых кустов его рта.
– …Нужные? – прожевав и обтерев салфеткой усы, повторил он. – Какие же это нужные?
– Ну… Не знаю пока.
– Не знаешь, – подтвердил он удовлетворенно. – А между тем ты – фонд, и немалый. Ты сидишь на мешке с деньгами. А в Москве – чуть ли не пару сотен еврейских организаций, и каждая в свое время явится с протянутой рукой.
– И каждой я должна дать?! Сколько?! – меня охватила паника, как всегда при возникновении темы денег. (Интимная семейная тайна: я не умею считать.) Он туманно улыбнулся.
– А вот в этом и весь кайф. И даже – острое наслаждение. Можешь дать, а можешь и не дать… Тут все зависит от отношений, а отношения штука тонкая… Понесут к тебе проекты, разного рода затеи, которые тебе и в голову не могли бы прийти – от строительства Новой Вавилонской Башни в Лужниках до проекта космической станции с изучением иврита в космосе… И знаешь, это даже познавательно, тебе и в профессиональном смысле пригодится – наблюдения над всеми этими еврейскими Кулибиными. Еще и роман какой-нибудь потом сбацаешь… Ты изумишься – сколько идиотов приходится на одного здравомыслящего человека! Далее: каждый праздник начнется у тебя не с вечерней звезды, а со звонка Фиры Ватник, знаменитой нашей певицы Эсфирь Диамант – великая доярка, она каждый год собирает с коровы по имени Синдикат рекордный надой молока. Затем обязательно явятся гуськом Клара Тихонькая с Саввой Белужным, – это общество «Узник», – и не отвертишься, дашь, дашь на ежегодный торжественный Вечер Памяти, да еще и прослезишься: тема такая – память шести миллионов убиенных… Только держи себя в руках и не швырни в нее, в Клару, чем-нибудь тяжелым, м-да… ну и бесконечные сумасшедшие…
– Что – сумасшедшие? – упавшим голосом спросила я.
– А для тебя секрет, что евреи – сумасшедшие?
– Ну не все же…
– Все! – жестко отсек он, доедая последний кусочек торта. – Только каждый по-своему… Один Кручинер чего стоит. А вот, погоди, как пойдут к тебе писатели! Словно баржи караванов поплывут из темноты. Колонна за колонной, батальон за батальоном повзводно, и у каждого в руках – папка с рукописью. К тебе не зарастет народная тропа… И каждый скажет: – «Вы должны меня понять, вы же сами немного пишете…»
Я разозлилась. Он явно брал меня на испуг, явно ревновал к своему кабинету, к своему насиженному ортопедическому креслу, которое, как сплетничали, он заказал себе специально для своего ишиаса, а тут я метила в него своей здоровой наглой задницей.
– Так что, – сухо спросила я, – во всей Москве уж и поговорить нынче не с кем?
– Ну почему же… Есть чертовски обаятельные люди! – Он оживился. – Ты, знаешь, держись научного мира. Там уж если встретишь чудака, так хоть знаешь, что это профессор, автор книг, умница и полиглот. А то, что он в бабочке и штанины задраны… так это от бедности. Ты им подкидывай на их конференции, рука дающего, знаешь…
– Расскажи-ка о моих непосредственных подчиненных, – попросила я.
– О, это – отдельная тема. Ну, пиши: Маша, секретарь. Девчонка вздорная, невоспитанная, нерадивая, всем хамит. К тому же дохлая, все время болеет, падает в обмороки. Уволь ее, к чертовой матери, я просто не успел…
Дальше: старуха Эльза Трофимовна, мониторинг прессы. Газеты прочитывает от корки до корки, глаз навострен на нашу тему, заметку вырежет, склеит, отошлет по факсу в Центр, напишет грамотный обзор прессы, но не требуй от нее большего ни на копейку. Это – лошадь, которая знает только одну борозду. К тому же имеет обыкновение выбрасывать или рвать сверхважные для Синдиката бумаги. За ней нужен глаз да глаз. Если утомит, уволь, к едрене фене.
Затем: Женя, сидит на сайте Синдиката. Собирает Базу данных. Говорят, гений компьютерного дизайна, но с большим приветом. Рыбок развела в отделе…
– В каком смысле?
– В смысле аквариум поставила… Кормит их, воду меняет, отсаживает мальков в баночку. Если тебе эти радости безразличны, уволь вместе с рыбками и Базой данных.
Дальше – Костян. Этот – толковый, умеет делать все: работает на ризографе, собирает брошюры, и потому на нем сидят верхом все департаменты. Однако склонен преувеличивать свое значение в истории еврейского народа. Время от времени требует повышения зарплаты – у него семья. Если станет зарываться, проучи: уволь!
Да, еще – наш департамент издает газету «Курьер Синдиката», ее делает Галина Шмак, баба совершенно чокнутая. Вообще, дело свое она знает, газета в срок выйдет, но вся штука – с чем? Все материалы надо проверять лично, иначе скандалу не оберешься. У нее даже и опечатки скандальные. В прошлом номере в слове «хай-тек» вместо «а» было пропущено «у». Учитывая нынешнюю ситуацию в Стране, – чистая правда, но не для нашего ведомственного издания, созданного для пропаганды и рекламы Страны и всего, что в ней ползает, плавает и летает… Вот где у меня сидят ее опечатки! – Он прижал ладонь почему-то к пояснице, где гнездился застарелый его ишиас. – К тому же вечно она несется, как полоумная, и на виражах может вышибить мозги себе и всем, с кем сталкивается. Если уж совсем взвоешь от ее штучек, – уволь.
Ну и наконец, Рома Жмудяк, работничек тот еще…
– А уволить его нельзя? – с усталой готовностью спросила я.
Он вздохнул и сказал:
– Это женщина, сидит на рекламе. И вот ее-то, единственную, уволить не получится. Она жена Гройса… – посмотрев в мои не сморгнувшие глаза, он спросил с недоверием: – Ты что, о Гройсе не слышала? Не может быть, его знают все. В начале Бог сотворил Гройса, а тот уж наплодил кучу еврейских организаций – Потемкин удавился бы от зависти! Он крупный общественный деятель, очень влиятельное лицо. В Новой Еврейской истории исполнил роль Авраама. Помнишь? – «и размножу потомство твое как песку морского…». Ну, и Рома, разумеется, за его спиной. Главное, не пытайся заставить ее работать, она все равно ускользнет. В отпуск уйдет, заболеет, будет на дачу переезжать, потом с дачи – на квартиру, по утрам – в пробке застрянет… Хотя сначала производит впечатление энтузиастки любой вожжи под хвост. Это какой-то сплошной гудок порожней баржи. Замучаешься ее толкать. Бороться с ней бессмысленно, упрешься в Гройса. Да и не надо, ей-же Богу, в него упираться. Себе дороже.
Еще вот что: тебе понадобится изрядный срок, чтобы понять – какая собака где задирает лапу, и научиться не влипать в непонятку. Не приведи Господи, например, пригласить на торжественное открытие нашего мероприятия не нашего Главного раввина.
– Постой, а разве Главный раввин – не один?
– Зачем же, мы не бедные. В нашей истории всегда один раввин был другого круче, всегда дрались… Сейчас их в России трое. И каждый – Главный, вот в чем штука. Нонаш Главный раввин, запомни – Манфред Григорьевич Колотушкин. Человек интеллигентный, милый, лояльный, Бог с ним совсем, карта битая. Сейчас к туфле допущен Козлоброд… Так вот, не страви их, поскольку Козлоброд нашего затопчет. Тот молодой, энергичный, и что немаловажно – богатый. Бруклинская штучка, варяг с пейсами. Есть еще один Главный раввин России, Мотя Гармидер, ковбой-щадист. Знаешь, этот милый американский вариант иудаизма – Щадящий. Мотя – он без претензий, славный парень. Танцует хорошо. Главное, заруби на носу: ты – человек прохожий, отбудешь срок и уедешь, а они со своими проблемами, склоками, конгрессами и раввинами… – все останутся.
– Но почему же непременно – все останутся? Ведь наша работа предусматривает хоть какой-то процентвосходящих в год?
– Предусматривает, предусматривает… – он насмешливо покачал головой. – Когда еврея в каком-нибудь его Урюпинске рэкет прижмет, он обязательновзойдет, да что там – костром взовьется! Да только тебе что с того! Ты в Синдикате – белая кость, твой департамент на особом положении, ты не обязана выдавать статистику на-гора. Твои результаты туманны, общеукрепляющи, витаминны… Словом, брось думать об этой бюрократической чепухе! Живи в свое удовольствие. Запишись в бассейн, ходи в театры, домработницу найми… Синдикат башляет!
Он замолчал, нахмурился, несколько раз шевельнул губами, как бы прикидывая – стоит предупредить меня о чем-то важном или дать самой поколотиться о заборы… Наконец произнес:
– Слушай…Я понимаю, у тебя сейчас каша в голове, столько новой информации. Но если хочешь выйти из всей этой катавасии целой и вменяемой… запомни сейчас одно имя: Клещатик, Ной Рувимыч.
– Смешная фамилия…
– Да нет, не очень.
– А кто это?
Он опять подумал, как бы прикидывая ответ…
– Это трудно объяснить… Запомни сейчас, и все. И в дальнейшем, когда этот человек окажется рядом, или голос его зазвучит в телефонной трубке, или кто-то произнесет его имя, пусть все твои чувства, все мысли и все позывы твоего естества замрут и встанут дыбом.
– О, Господи! – воскликнула я, округляя глаза в комическом ужасе. – Да вернусь ли я живой из этого плаванья?!
(В ту минуту я даже не предполагала, насколько серьезно мой ангел-хранитель прислушивается к этой беседе, как надраивает свои боевые доспехи в преддверии горячей российской страды, чистит шлем, проветривает перышки на крыльях, как шаркает подошвами, проверяя устойчивость новых, только что выданных со склада, казенных штиблет).
– Ну, вот… Вроде, о главном я предупредил. Во всей той жизни, знаешь, бездна деталей и тонкостей, которые не поймешь, пока не влезешь в шкуру синдика и не отдубишь ее как следует. Так что приедешь, оглядишься… Разберешься – что к чему.
Он подозвал официанта, рассчитался, его добротный кожаный бумажник нырнул в нагрудный карман пиджака…А я, допивая последний глоток апельсинового сока, подумала – а действительно, а что: уволю, пожалуй, весь отдел, наберу молодых, энергичных, преданных мне ребят…
* * *…В первый же день, проходя по двору нашего садика, я заметила мальчика в шортах и в синей панамке, сидящего спиной ко мне на бортике пустой песочницы. Что-то он там искал, этот мальчик. Рядом на земле валялся самокат… Чей-то сын или внук, подумала я. И сразу он разогнулся, видимо, нашел, что потерял, выскочил из песочницы и, ведя самокат за рога, направился вместе со мной к входным дверям.
– Здравствуйте, – сказал он вежливо, открывая передо мной дверь. – С приездом!
– Здравствуй! – удивилась я. – А ты что, знаешь меня, мальчик?
– Я не мальчик, я – Женя, – терпеливо и, видимо, привычно проговорила она, снимая панамку. – Из вашего департамента. Сайт и база данных… – Она поймала мой ошарашенный взгляд на самокат и пояснила: – Я рядом здесь живу, на соседней улице. Очень удобно, знаете…
И пока мы поднимались на второй этаж, я узнала массу необходимых мне сведений: какую температуру надо поддерживать в аквариуме, чтобы гурами не передохли, и сколько раз в году надо менять воду… А люблю ли я собирать камушки на море – вот было бы здорово, если б я из Израиля привезла какие-нибудь красивые камушки для аквариума…
– Сколько вам лет, Женя? – спросила я осторожно.
– Двадцать пять, – сказала она, глядя на меня круглыми черными глазами и доверчиво прижимая панамку к груди.
Мы поднялись на второй этаж, причем, Женя забегала передо мной вперед на две-три ступеньки, привскакивая, пришаркивая, торопливо договаривая какие-то свои, совершенно детские новости; повернули налево, в узкий боковой коридор, повернули еще раз и оказались в небольшом отсеке, поделенном на три, вытянутые анфиладой, смежных комнаты, сейчас еще безлюдных. В первой, крошечной, стояли два стола с компьютерами, во второй – три стола, причем на одном пузатился небольшой аквариум, к которому Женя сразу приникла, что-то бормоча, приговаривая, сыпля щепоткой корм огненным меченосцам…
Это, как выяснилось, была приемная. Из нее открывалась дверь в кабинет начальника департамента, с огромным столом, двумя шкафами и действительно роскошным ортопедическим креслом, в которое я с детским восторгом плюхнулась и сильно крутанулась: дело в том – и это вторая интимная тайна, – что у меня никогда не было своего письменного стола и своего кресла, и я даже не стану здесь рассказывать – где и как были написаны десятка два моих книг.
Затем, вскочив, прикрыла дверь своего (своего!) кабинета и минут двадцать, пока комнаты оживали голосами моих подчиненных, в нервном напряжении болталась по комнате, касаясь руками предметов на столе, ручек шкафа, листьев полудохлого фикуса; поглядывая в окно, из которого прочитывался огромный рекламный щит: «Двойная запись – принцип бухучета!»
…Наконец, воссев в ортопедическом кресле, положила перед собой полный список сотрудников департамента и вытащила из сумки пудреницу. В зеркальце отразилось мое строгое начальственное лицо. Я запудрила тени под глазами и еще раз проглядела список: первой значилась Маша Аничкова, секретарь, против ее фамилии стоял мой приговор «уволить на хрен!!!»; набрала номер соседней комнаты, где сидели трое – Маша, Костян (мужик на хозяйстве) и Женя (сайт и база данных), и сухо, негромко сказала в трубку:
– Маша, будьте любезны, зайдите.
Она вошла и села. Было в ней что-то худосочное, нерешительное, жалкое. Бледная немочь, подумала я брезгливо, бледная немочь, а не секретарь департамента. Найму огонь-девку, чтоб щебетала, хватала намеки на лету, делала три дела зараз и вертела задом на все стороны.
– Если не ошибаюсь, вы, как секретарь, должны ввести меня в курс дела, – сказала я.
Она мгновенно как-то изжелта побледнела, тихо и тупо переспросила:
– Чего эт еще?.. – И стала медленно валиться набок, сосредоточенно глядя перед собой. Я вскрикнула, вскочила, обежала стол и успела подхватить ее голову прежде, чем та стукнулась об пол.
Дверь распахнулась, влетели Женя и высокий, размашистый, сразу заполнивший весь кабинет, парень – наверное, Костян. Деловито приговаривая: «спокойненько-спокойненько-спокойненько…» – он подхватил Машу под мышки, Женя подняла ее ноги, и мы застряли так в дверях.
– Какого чер-р-рта нет дивана?! – прорычала я.
– Ничего-ничего-ничего… – скороговоркой сказал Костян, – вот, давайте, мы ее вот так посадим, а я ей в физиономию плюну… Она сейчас придет в себя, не беспокойтесь… – Он набрал полный рот воды из пластиковой бутылки на столе и мощно прыснул Маше в лицо. Та вздрогнула и поникла.
– Понимаете… – шепотом сказала Женя, – это вечный недосып.
– Почему – недосып?
– Маша с мамой живет, та очень больна, онкология, химия, то, се… Еще она в университете на вечернем. И последнюю неделю страшно боялась.
– Чего боялась?
– Вас… – сказала Женя, потупившись. – Боялась, что вы ее уволите. А она кормилец семьи.
– Что за глупости! – рявкнула я. – Что за бредовые фантазии?
Маша между тем очнулась и беззвучно заплакала… На этом кончилось мое им «выканье». Надо было как-то управляться с этими детьми.
Я наклонилась к своему секретарю и строго отчеканила:
– Маша! Сейчас домой, спать. Завтра научишь меня, к кому здесь обращаться, чтобы купили диван.
В эту минуту позвонили. Я, еще не привыкнув к своему начальственному статусу, сняла трубку сама.
– …и только попробуй бросить телефон!!! – заорали мне в ухо. – Я те брошу!!
– Что… что за странный тон, простите?
– Я те щас покажу «тон»! Издеваешься, сволочь?!
– …позвольте… на каком основании…
– Молчать! Молчать, падла!!! Не хулиганить!!!
Я опустила трубку на рычаг. За мной с большим интересом следил весь департамент, сгрудившийся у моего стола. Все, кого я собиралась уволить на хрен.
– Это Кручинер, – наконец проговорил Костян сочувственно, – вероятно, у него сезонное обострение.
Телефон звонил, не переставая. Костян сказал, что тот все равно не отстанет, есть только один верный способ. Поднял трубку и кротко спросил:
– Ефим Наумыч? Да-да… Это наш новый начальник… Хорошо… Обязательно! Вы правы… Непременно… Я уже уволил ее, на хрен. Вот, пока вы звонили.
– Что это?! – спросила я, когда обрела дар речи. – Что он тебе говорил?!
– Как обычно… Сказал, что Синдикат – сборище жидовских негодяев, что он сотрет нас с лица земли, что вас он раздавит, как мошку, что из-за нас у него протекает кондиционер…
– …но?!!
– Ну, это же Кручинер…
Microsoft Word, рабочий стол, папка rossia, файл sindikat
«…Как я люблю профессионалов, мастеров любого дела! Причем с равным благоговением отношусь к мастеру-парикмахеру, мастеру-портному, мастеру-сантехнику, мастеру-писателю, мастеру-музыканту. С мастерами всегда чувствуешь себя защищенным и счастливым. Вот Костян – нет такой задачи, которую он не смог бы решить, нет такой розетки, в которую не смог бы включить все, что должно в нее включаться. Нет такого прибора, который бы в его присутствии не вытягивался во фрунт, и ревностно не исполнял свои функции наилучшим образом. Порой я просто позову его в кабинет и только затяну неопределенное: – А что, Костян, хорошо бы… – как он уже записывает в свой блокнотик план, расставляет приоритеты и – умчался исполнять. Знает бездну вещей, осведомлен о таких деталях и частностях здешнего бытования, о которых я никогда не задумывалась. Он весь длинный, ножищи огромные, лапищи огромные, походка землемера, умен, востер, экономен и хозяйственен, словно синдикатовское добро достанется его малышам в наследство. Малышей у него двое – сыновья-погодки. Словом, при Костяне я чувствую себя, как кенгуренок в сумке у заботливой мамаши.
Величайшим мастером оказалась и Маша, мой секретарь, – та самая, что умудряется грубить, одновременно падая в обморок. Она умеет считать!!! В уме! Не доставая калькулятора! Я с огромным облегчением немедленно отдала ей на откуп всё, столь устрашавшее меня делопроизводство департамента, и теперь, когда она появляется в кабинете – строгая и нелицеприятная, с пачкой каких-то бумаг для бухгалтерии на подпись, – и я говорю с досадой: – Маша, у меня такая легкая роспись, ее так легко подделать, неужели надо морочить мне голову с каждой бумажкой!
Она отвечает без улыбки: – Как вам не стыдно, Дина, ведь это подлог! – и я покорно подписываю бесчисленные и загадочные для меня акты, договора и накладные.
Женя – тоже мастер, в еще более таинственной для меня области. Она повелитель сакральных долин, компьютерных леса и дола, видений полных, пещеры сорока разбойников, проникнуть в которую простому смертному вроде меня невозможно. «Сезам, откройся!» – восклицает она каждое утро, вернее, щелкает мышкой, пролетает детскими своими пальчиками по клавишам – и на экран екомпьютера всплывают имена и фамилии. О, ба-а-а-за да-а-анны-их! – поется на мотив неаполитанской песни. Таинственная и недоступная для других организаций база данных Синдиката.
Работая, Женя то и дело выкрикивает фамилии, словно достает диковинные заморские товары из своих закромов – персидские шали, меха, пряности, благовония, медную посуду, украшения и венецианские ткани:
– Арнольд Низота! Фома Гарбункер! Феня Наконечник! Богдан Мудрак!
Все хором кричат: «Не может быть!!!» Женя говорит: «Пожалуйста, убедитесь». Все бросаются к экрану ее компьютера, пожалуйста, – убеждаются…
Каждая еврейская организация, даже новорожденная, даже и вовсе неимущая, считает для себя обязательным сколотить свою собственную базу данных. Причем в каждой организации подозревают, что у конкурента база данных полнее, евреи отборнее, крупнее, без червоточин. «А у УЕБа – больше!» – орет Костян, который развозит тираж нашей газеты по всем организациям Москвы, собирает сплетни отовсюду и потому считается у нас лицом осведомленным. Так вот, у УЕБа – больше. Эта не совсем приличная аббревиатура означает – Управление Еврейской Благотворительностью, – организация, тоже финансируемая американскими спонсорами. УЕБ – наш главный конкурент и идейный противник. Мы здесь – для того, чтобы вывозить евреев из России. Они – для того, чтобы развивать и поддерживать здесь общинную жизнь. (Кстати, средства на эти столь разные цели могут идти – такая вот еврейская метафизика – из одного, вполне конкретного кармана вполне конкретного чикагского мистера Aharon. K.Gurvitch.)
И еще о мастерах. Эльза Трофимовна, бесшумная старуха кротости необычайной, – тоже мастер. В течение каждого утра она проглатывает толстенную кипу газет. Однажды мне даже приснилось, как бодро хрумкая газетными страницами, она прожевывает гигантские комки, так что видно, как трудно они проходят по горлу, и, преданно вытаращив глаза, запивает их чаем. Огромную толщу прессы прочесывает она в поисках еврейской темы, и часам к 12 дня вырезанные и отксерокопированные статьи уже отправлены по факсу в Иерусалим, в Аналитический департамент, а копии лежат по кабинетам на столах у Клавы, у меня и у вечно поддатого Петюни Гурвица, который никогда ничего не читает.
Кроме того, Эльза Трофимовна составляет еженедельные обзоры по материалам российских СМИ. И это мастерски сделанные обзоры – на зависть краткие, точные, емкие. Во всем остальном Эльза Трофимовна беспомощна и – не побоюсь этого слова – абсолютно бессознательна. Поручить ей ничего нельзя. Она забывает первое слово, едва выслушав последнее. Напрягается, переживает, трепещет, подобострастно вытаращивается. Наконец, уходит, возвращается, извиняется и переспрашивает адрес – куда идти, имя – к кому обратиться, суть поручения. Уходит… Возвращается с проходной или уже от метро и опять переспрашивает… Наконец, уходит с Богом, приходит не туда, ни с кем не встречается, ничего не приносит, возвращается ни с чем, убитая, истовая, готовая снова идти куда пошлют. Первое время я подозревала, что она делает это нарочно, чтобы начальству неповадно было держать ее на посылках, потом заподозрила, что ее обзоры пишет не она. Убедилась: она. Я просто видела, как она их пишет – как крот, роющий в земле свою нору. Пригнув голову к столу, ровно и безостановочно буравя ручкой бумагу…