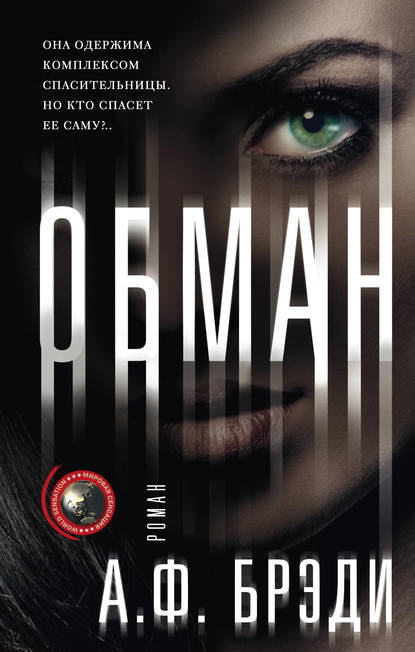Полная версия
Это как день посреди ночи
Прошло несколько недель. Отец тощал на глазах. Он становился все раздражительнее и всегда находил предлог для того, чтобы излить на мать свой гнев. Бить он ее не бил, только кричал, а мать стоически опускала повинную голову и ничего не говорила. Жизнь проходила мимо, и наши ночи наполнялись злобой. Отец перестал спать, постоянно ворчал и стучал кулаком по ладони. Я слышал, как он, погрузившись в мрачные раздумья, меряет шагами комнату. Порой он выходил во двор, садился на землю, обхватывал руками ноги, упирался подбородком в колени и сидел так до самого утра.
Однажды утром он велел мне надеть самую приличную гандуру и повел к своему брату. Дядя в аптеке расставлял по полкам коробки и флаконы.
Перед тем как войти, отец застыл в нерешительности. Гордый, но попавший в затруднительное положение, он долго ходил вокруг да около, прежде чем перейти к цели своего визита: ему нужны были деньги… Дядя тут же запустил руку в кассу, будто ожидал чего-то подобного, и извлек на свет божий крупную купюру. Отец с болью во взгляде уставился на нее. Дядя понял, что брат не протянет за ней руки. Он вышел из-за прилавка и положил деньги ему в карман. Отец будто окаменел и стоял, понурив голову. Когда он сказал «спасибо», голос у него был глухой, сиплый и такой тихий, что его едва можно было различить.
Дядя вновь встал за прилавок. Было заметно, что его что-то гложет, но вскрывать нарыв, чтобы оздоровить обстановку, он не осмеливался. Он без устали ловил взгляд отца, а его белые, чистые пальцы нервно барабанили по дереву. Взвесив добросовестно все за и против, он набрался храбрости и сказал:
– Иса, я знаю, как тебе тяжело. Но также знаю, что ты справишься… если позволишь мне немного тебе помочь.
– Я верну все до последнего су, – пообещал отец.
– Я не об этом, Иса. Расплатишься когда захочешь. Если бы это зависело только от меня, то тебе даже не надо было бы об этом беспокоиться. Я могу одолжить тебе и больше, для меня это не проблема. Я твой брат, можешь обращаться ко мне с любыми просьбами и в любое время… – Он немного помолчал, прочистил горло и продолжил: – Даже не знаю, как тебе сказать, мне всегда было трудно с тобой общаться. Я очень боюсь тебя обидеть, хотя всего лишь хочу быть твоим братом. Но для тебя, Иса, настало время научиться слушать. В этом нет ничего плохого. В жизни постоянно приходится чему-то учиться – она так быстро меняется, вместе с ней меняется и наше мышление, в результате человеку кажется, что он узнает все больше, хотя на самом деле пробел в его знаниях все расширяется и расширяется.
– Я справлюсь…
– На этот счет я даже не сомневаюсь, Иса. Ни на секунду. Но для реализации добрых намерений нужны средства. Считать, что ты тверд как скала, еще мало.
– На что ты намекаешь, Махи?
Дядя нервно теребил пальцы, искал слова, вертел их и так и сяк в голове, затем глубоко вдохнул и сказал:
– У тебя жена и двое детей. Для человека, лишившегося всего, это обуза. Они связывают тебя по рукам и ногам и подрезают крылья.
– Они моя семья.
– Но я ведь тоже твоя семья.
– Это разные вещи.
– Нет, Иса, это одно и то же. Твой сын – мой племянник. В его жилах течет моя кровь. Отдай его мне. Ты прекрасно знаешь, что он вряд ли добьется значительных успехов, если пойдет по твоим стопам. Кого ты собираешься из него сделать? Грузчика, чистильщика обуви, погонщика ослов? Посмотри правде в глаза. С тобой для него все дороги закрыты. Парню нужно ходить в школу, научиться читать и писать, получить хорошее воспитание. Я знаю, маленьким арабам учиться вроде ни к чему. Их удел – пашня и стадо скота. Но я могу определить его в школу и сделать из него образованного человека… Прошу тебя, не принимай мои слова в штыки. Подумай, хотя бы минуту. С тобой у мальчика нет будущего.
Отец долго размышлял над словами брата, опустив глаза и плотно сжав зубы. Когда он поднял голову, лица у него больше не было – его сменила бледная маска.
С тяжелым сердцем он сказал:
– Нет, брат, ты никогда ничего не поймешь.
– Зря ты так, Иса.
– Помолчи… не говори больше ничего, и так сказал уже достаточно… У меня нет твоего знания, и я очень об этом сожалею. Но если знание сводится к тому, чтобы унижать других, считая их полными отбросами, то мне оно не нужно.
Дядя хотел было что-то сказать, но отец твердой рукой его остановил. Затем вытащил из кармана банкноту и положил ее на прилавок:
– И деньги твои мне тоже не нужны.
С этими словами он схватил меня за руку с такой злобой, что чуть не вывихнул плечо, и вытолкал на улицу. Дядя хотел было нас догнать, но не осмелился и замер на пороге аптеки, уверенный, что брат до конца дней своих не простит ему только что совершенную ошибку.
Отец не шагал, он катился, как огромный валун по склону холма. На моей памяти подобных приступов гнева с ним еще не случалось. Он был готов взорваться. Лицо его дергалось в нервном тике, он страстно желал, чтобы весь мир провалился под землю, – это явственно читалось в его глазах. Он ничего не говорил, и это возмущенное, негодующее молчание, еще больше накалявшее ситуацию, заставляло меня опасаться худшего.
Когда мы отошли на приличное расстояние, он прижал меня к стене и вперил в мои перепуганные глаза тяжелый, безумный взгляд.
– Ты думаешь, я полное ничтожество? – хрипло сказал он. – Думаешь, я произвел на свет мальчишку, чтобы глядеть, как он медленно загибается?.. Ну так знай – ты ошибаешься. И твой лицемер дядя тоже ошибается. И судьба, полагающая, что я дошел до ручки, тоже дала маху… А знаешь почему? Я хоть и получил расчет, но еще не отдал Богу душу. Я все еще жив и силен, как бык. У меня железное здоровье, я одними руками могу свернуть горы, и гордость мою не поколебать никому.
Его пальцы впились в мое плечо, причиняя мне боль. Но он этого даже не замечал. Глаза в глазницах ворочались, как два раскаленных добела шара.
– Да, спасти нашу землю у меня кишка оказалась тонка. Но вспомни, я же ведь вырастил урожай! А то, что произошло потом, не моя вина. Молитвы и усилия часто оказываются бессильными перед человеческой жадностью. Я был наивен. Но теперь – нет. Никто больше не сможет нанести мне удар в спину… Я начинаю с нуля. Но начинаю как человек искушенный. Я буду ишачить почище любого негра, не уступлю никакому злому року, и тогда ты собственными глазами увидишь, какой достойный у тебя отец. Я хочу вытащить нас из ямы, в которой мы оказались! Клянусь, я заставлю ее нас выплюнуть. Ты-то хоть мне веришь?
– Да, папа.
– Посмотри мне в глаза и скажи, что веришь.
Нет, это были не глаза, теперь на его лице зияли два бездонных провала, наполненные слезами и кровью, грозившие поглотить нас обоих без остатка.
– Посмотри на меня.
Он с силой схватил меня за подбородок и заставил поднять голову.
В горле у меня застрял непомерных размеров ком. Я не мог ни слова сказать, ни выдержать его взгляд. И стоял прямо только потому, что меня держала его рука.
Вдруг он другой рукой залепил мне оплеуху.
– Молчишь, потому что считаешь все это бредом собачьим. Грязный сопляк! Ты не вправе во мне сомневаться, слышишь? Никто не вправе. И если твой дерьмовый дядя считает, что я ничего не стою, то и он для меня теперь тоже пустое место.
Впервые в жизни он поднял на меня руку. Я не понимал, я даже понятия не имел, в чем заключалась моя провинность и почему он на меня набросился. Мне было стыдно, что я его разозлил, я боялся, что отец, человек, значивший для меня больше всех на свете, от меня отречется.
Отец опять занес руку, но так и не ударил. Пальцы его дрожали. От припухших век лицо казалось уродливым. Из груди вырвался хрип раненого зверя, он всхлипнул, с силой прижал меня к груди и не отпускал так долго, что мне показалось, я вот-вот умру.
Глава 3
Женщины собрались за низеньким столом в углу патио. Пили чай и грелись на солнце. Мать скромно сидела с ними с Зарой на руках. Некоторое время назад она в конце концов присоединилась к их компании, хотя участия в разговорах не принимала. Она была кроткой и, когда Бадра пускалась рассказывать свои сальные истории, краснела и задыхалась от смущения. В этот послеполуденный час говорили понемногу обо всем, переходя от одной темы к другой, просто чтобы не поддаваться жаре, изливавшейся на двор. Рыжая Езза сверкала подбитым глазом: накануне ее муж опять вернулся домой в подпитии. Остальные делали вид, что ничего не произошло. Из приличия. Езза была дама гордая и подлость мужа терпела с достоинством.
– Мне вот уже какую ночь подряд снится странный сон, – сказала Марна гадалке Батуль, – один и тот же: я лежу в темноте, растянувшись на животе, и кто-то вонзает мне в спину нож.
Женщины повернулись к Батуль, ожидая, что она на это скажет. Гадалка надула губы и почесала голову – на ум не приходило ничего путного.
– Один и тот же, говоришь?
– Да, в точности один и тот же.
– Ты лежишь в темноте на животе и кто-то вонзает тебе в спину кинжал? – спросила Бадра.
– Так оно и есть, – подтвердила Марна.
– А ты уверена, что это именно кинжал, а не что-то другое? – вновь спросила Бадра, закатывая шаловливые глаза.
Женщины на несколько секунд замерли, вникая в смысл намека Бадры, и разразились хохотом. И поскольку Марна не могла понять, что заставило товарок умирать со смеху, Бадра немного ей помогла:
– Скажи мужу, чтобы был осторожен.
– Ну ты напрочь больная! – взвилась Марна. – Я ведь серьезно.
– Представь себе, я тоже.
Женщины заржали пуще прежнего, широко открывая рты в приступах судорожного хохота. От их нескромности Марне сначала стало тошно, она на них обиделась, но потом, видя, как они схватились за животы, тоже стала улыбаться, а затем и вовсе покатилась со смеху, перемежая его икотой.
Одна лишь Хадда оставалась серьезной. Она свернулась клубочком, крохотная, но упоительно прекрасная, с огромными глазами сирены и милыми ямочками на щеках. Выглядела она печальной и с тех пор, как присела к остальным, не промолвила ни слова. Вдруг она протянула над столом Батуль руку и спросила:
– Скажи мне, что ты видишь?
В голосе ее звенела невыносимая печаль.
Батуль застыла в нерешительности. Под внимательным взглядом молодой женщины она взяла маленькую ручку за кончики пальцев и провела ногтем по линиям, прочертившим прозрачную ладонь.
– У тебя рука волшебницы, Хадда.
– Скажи мне, что ты видишь, славная соседка. Мне нужно знать. Я больше не могу.
Батуль долго вглядывалась в ладонь. Не говоря ни слова.
– Мужа моего видишь? – допытывалась Хадда, доведенная до крайности молчанием гадалки. – Где он? Чем занимается? У него что, другая жена? Может, он умер? Умоляю тебя, скажи, что ты видишь. Я готова услышать правду, какой бы она ни была.
Батуль вздохнула, плечи ее опустились.
– Я не вижу на твоей руке мужа, бедная моя. Нигде. Я не чувствую его присутствия и не ощущаю даже намека на его след. Либо он уехал настолько далеко, что забыл тебя, либо его больше нет на этом свете. С уверенностью можно сказать лишь одно: он больше не вернется.
Хадда судорожно сглотнула, но выдержала. Ее глаза впились в лицо гадалки.
– Что уготовило мне будущее, славная моя соседка? Что со мной станет, как я буду жить одна с двумя малолетними детьми на руках, без близких, без семьи?
– Мы не оставим тебя в беде, – пообещала ей Бадра.
– Если меня бросил муж, то никакая другая спина на себе уж точно не потащит, – возразила Хадда. – Батуль, скажи, что со мной будет? Я должна знать. Когда человек готов к худшему, ему легче сносить удары судьбы.
Батуль склонилась над рукой соседки, вновь и вновь проводя ногтем по скрещивавшимся на ладони линиям.
– Вижу вокруг тебя много мужчин, Хадда. Но очень мало радости. Счастье – не твой удел. Вижу короткие периоды просветления, быстро сменяющиеся годами мрачной тоски. Но ты все равно не сдашься, несмотря ни на что.
– Много мужчин? Что это значит? Я что, несколько раз овдовею или же со мной будут постоянно разводиться?
– Сказать точно ничего нельзя. Вокруг тебя слишком людно и шумно. Это похоже на сон, но… нет, это не сон… это… странно… Может, я несу чепуху… Знаешь, я сегодня немного устала. Прости меня…
Батуль встала и неуверенным шагом направилась в свою комнату. Моя мать воспользовалась ее уходом, чтобы тоже улизнуть.
– И не стыдно тебе проводить время с женщинами? – грубо, но тихо бросила она мне, когда на двери нашей лачуги за нами опустился занавес. – Сколько раз тебе повторять: мальчик не должен слушать, о чем судачат матери! Ступай на улицу. Только далеко не уходи.
– Что мне там делать, на этой улице?
– А с женщинами тебе и подавно делать нечего.
– Они опять полезут со мной драться.
– Давай сдачи, ты же не девочка. Рано или поздно тебе придется научиться защищаться, а если ты только то и будешь делать, что слушать женские сплетни, из тебя ничего путного не получится.
Я не любил уходить из дому. Злоключения на пустыре наложили на меня клеймо. Я осмеливался высунуть нос на улицу, лишь внимательно осмотрев предварительно окрестности, глядя одним глазом вперед, а другим назад и готовый задать стрекача при малейшем подозрительном движении. Я отчаянно боялся мальчишек, особенно некоего Дахо, приземистого пацана, уродливого и хитрого, как джинн. Он меня пугал. Завидев его в конце улицы, я чувствовал, что рассыпаюсь на мелкие кусочки, и готов был даже пройти сквозь стену, лишь бы избежать встречи с ним. Этот мрачный мальчишка, непредсказуемый, как молния, разбойничал в окрестностях во главе банды малолетних гиен, таких же коварных и жестоких, как и он сам. Никто не знал ни откуда он взялся, ни кто были его родители, но все сходились в том, что рано или поздно его либо повесят, либо посадят на кол.
Был еще Эль Моро, бывший арестант, вернувшийся в город после семнадцати лет каторги, – великан, почти даже исполин, с массивной головой и руками, в которых чувствовалась геркулесова сила. Все его тело покрывали татуировки, на выбитом глазу красовалась кожаная повязка. Лицо, от правой брови до подбородка, прорезал шрам, превращавший рот в уродливую заячью губу. Эль Моро представлял собой ужас в натуральную величину. Слух о его появлении распространялся моментально, и окрестные жители тут же старались исчезнуть. Как-то утром мне довелось увидеть его вблизи. Наша ватага мальчишек собралась вокруг Деревянной Ноги, бакалейщика. Старый конник арабской кавалерии как раз рассказывал нам о своих подвигах в марокканском эмирате Риф и подавлении восстания бербера Абд эль-Крифа. Мы с жадностью ловили каждое слово, слетавшее с его уст, но вдруг наш герой побледнел как полотно. Его, казалось, вот-вот хватит сердечный приступ. Но причина крылась в другом: за нами, уперев руки в бока, на своих могучих ногах стоял Эль Моро. С ухмылкой на губах он мерил бакалейщика взглядом.
– Тебе не терпится отправить этих сорванцов на бойню, деревянная башка? Ты поэтому забиваешь им голову своей гнусной трепотней? А почему бы тебе не поведать им о том, как после долгих лет преданной службы офицеры выбросили тебя, без одной ноги, на съедение собакам?
Деревянная Нога на мгновение потерял дар речи и лишь открывал и закрывал рот, подобно выброшенной на берег рыбе.
Эль Моро тем временем, распаляясь все больше и больше, продолжал:
– Ты сжигаешь бедуинские деревни, вырезаешь скот, стреляешь в бедолаг из карабина и затем выкладываешь свои долбаные трофеи на видном месте. И это ты называешь войной?.. Хочешь, я тебе скажу? Ты всего лишь трус, ты мне отвратителен. Когда я гляжу на тебя, у меня возникает желание насаживать тебя на твою деревянную ногу до тех пор, пока глаза не повылезают из орбит… Таким героям, как ты, памятники не ставят, вы даже не заслуживаете эпитафии на братской могиле. Ты всего лишь продажное дерьмо, возомнившее, будто ему позволено сморкаться в штандарт его хозяев.
Бедный конник зеленел и дрожал; на его шее бешено дергался кадык. Вдруг он почувствовал себя плохо и обделался от страха.
Но в Женан-Жато обитали не только мальчишки и бандиты. В большинстве своем люди там были неплохие. Нищета так и не смогла загубить их души, а горести – искоренить доброту. Они понимали, что дороги в жизни им нет, но по-прежнему ждали, когда на них упадет манна небесная, пребывали в полной уверенности, что неудачи, неотступно преследовавшие их, в один прекрасный день закончатся, и тешили себя надеждой возродиться из пепла. Люди они были достойные, а порой даже весьма привлекательные и смешные. Они продолжали верить в лучшее, и это наделяло их неслыханным терпением. Базарный день в Женан-Жато представлял собой что-то вроде празднества по случаю ярмарки, и каждый вносил свой вклад ради поддержания этой иллюзии. Вооружившись половниками размером с хорошую дубину, торговцы супом стояли насмерть, отбиваясь от нищих. За мелкую монетку можно было купить жидкую похлебку из турецкого гороха с тмином. Те, кому она была не по вкусу, могли зайти в одну из прокопченных харчевен, вокруг которых гроздьями кружили голодные, вдыхая полной грудью исходившие от них ароматы. Без хищников, конечно, тоже не обходилось; они стекались со всех концов города в поисках неосторожности или нерадения, которые можно было бы обратить в звонкую монету. Обитатели Женан-Жато на провокации не поддавались. Они понимали, что извращенную душу не исправишь, и проходимцам предпочитали бродячих циркачей. Все, от мала до велика, были от них без ума. В ярмарочных любимчиках неизменно ходили гуалы. Вокруг их помостов всегда собирались шумные толпы. Никто толком не понимал, о чем они толкуют, – их истории были столь же нелепыми, как и одежда, – но они обладали даром ошеломить слушателей и держать их в напряжении до тех пор, пока не будут рассказаны до конца все их байки. Для нас они были чем-то вроде оперы для бедноты, театром под открытым небом. К примеру, именно от них я узнал, что вода в море была пресной до тех пор, пока в него не пролили слезы вдовы моряков…
После гуал шли заклинатели змей. Они пугали нас, швыряя своих рептилий нам в руки. Как-то раз я увидел, как один из них заглатывал до половины трепещущих гадюк, а потом украдкой прятал их в рукавах своей гандуры – зрелище отвратительное, но в то же время завораживающее. Ночью он явился ко мне в кошмаре… Самыми бесчестными были шарлатаны всех пород и мастей; они жестами зазывали покупателей, стоя за столами, заставленными таинственными снадобьями, амулетами, талисманами и засушенными насекомыми, известными своей способностью повышать любовное влечение. Они предлагали средства от всех без исключения болезней: глухоты, зубного кариеса, подагры, паралича, теснения в груди, бесплодия, лишая, бессонницы, сглаза, невезения, фригидности, и люди попадались на крючок, демонстрируя поразительную доверчивость. Находились даже такие, кто, приняв приворотное зелье, уже через три минуты кричал о чуде и катался в пыли. Это впечатляло. Порой в толпе вещали прорицатели с замогильными голосами и степенными жестами. Они взбирались на первое попавшееся возвышение и, взлетая на крыльях лирического воодушевления, возвещали о загнивании умов и о неизбежном приближении Страшного суда. Затем разглагольствовали об Апокалипсисе, о гневе человеческом, о роке и порочных женщинах, показывали пальцами на прохожих, без стеснения обрушивались на них с бранью или принимались излагать эзотерические теории, которым не было ни конца ни края… «Сколько рабов восстали против империй, чтобы закончить свою жизнь на кресте? – горланил один из них, тряся спутанной бородой. – Сколько пророков пытались вразумить нас, хотя после их речей мы становились только глупее?» «Сколько раз тебе повторять, что ты до смерти нам осточертел? – неслось ему в ответ из толпы. – Вместо того чтобы донимать нас этой идиотской чушью, лучше заткни пасть и покажи танец живота».
Одной из главных наших достопримечательностей был Слиман. С шарманкой наперевес и обезьянкой на плече он расхаживал по площади, вращая ручку своего музыкального инструмента, а его крохотная уистити протягивала зевакам лакейскую фуражку. Когда же те бросали монетки, она благодарила их уморительными гримасами… Чуть поодаль, ближе к загонам для скота, священнодействовали продавцы ослов, ловкие вербовщики и грозные барышники, которые говорили так складно и убедительно, что даже могли выдать мула за чистокровного рысака. Я обожал слушать, как они расхваливали свой товар. Когда они охмуряли очередную жертву, это для нее было чистой воды наслаждением, – ей казалось, что ее окружили заботой, доступной разве что каидам… Порой в самый разгар праздника приезжали Каркабо, труппа чернокожих, увешанных амулетами мужчин, которые танцевали, как боги, закатывая молочные белки глаз. Об их приближении еще издали возвещало щелканье металлических кастаньет и барабанный бой, выделявшийся на фоне царившей вокруг адской какофонии. Каркабо чтили нас своим присутствием только по случаю дня чествования марабута Сиди Блала, их святого покровителя. Они приводили с собой жертвенного бычка в попоне с цветами братства и ходили от двери к двери, чтобы собрать средства, необходимые для совершения ритуала искупления. Их появление в Женан-Жато периодически нарушало царившую здесь скуку; женщины, несмотря на запрет, подбегали к дверям, ребятня разбегалась в стороны, подобно тушканчикам, за которыми гонятся терьеры, и суматоха от всего этого становилась еще головокружительнее.
Среди всех наших сказочных персонажей пальму первенства конечно же держал Слиман. Музыка его была нежна, прекрасна и будто лилась из чистого источника, а обезьянка – в высшей степени забавна. Говорили, что Слиман родился в образованной и процветающей семье французских христиан, но потом влюбился в бедуинку из Тадмая и принял ислам. Кроме того, ходили слухи, что он якобы когда-то жил на широкую ногу, потому что семья от него не отреклась, но потом решил остаться вместе с народом, его усыновившим, чтобы разделить все его радости и печали. Это было очень трогательно. Ни один араб, ни один бербер, даже самый презренный и недостойный, ни разу не выказал Слиману неуважения и никогда не поднял на него руку. Я очень любил этого человека. Даже сейчас, став стариком, я убежден, что никто в моих глазах не воплощал со столь блестящей очевидностью величайшую, на мой взгляд, силу и добродетель – рассудительность, качество, ставшее в наши дни такой редкостью, но возвышавшее мой народ в те времена, когда его никто и в грош не ставил.
Тем временем у меня появился друг, несколькими годами меня старше. Звали его Уари. Хрупкий, почти даже женственный мальчик, белокурый, едва не рыжий, с густыми бровями и орлиным носом, горбатым, как садовый нож. Впрочем, другом его назвать можно было с натяжкой; мое присутствие его не смущало, и, поскольку он мне был нужен, я всегда старался быть рядом. Уари, скорее всего, был сиротой или сбежавшим от родителей ребенком, я ни разу не видел, чтобы он переступал порог какого-нибудь дома. Он влачил жалкое существование за огромной кучей железного лома, в некоем подобии усеянного мусором загона, и с утра до вечера занимался тем, что ловил щеглов и затем их продавал.
Уари был молчун. Я мог разговаривать с ним часами напролет, но он не обращал на меня никакого внимания. Непонятный, одинокий мальчик и единственный в квартале, кто носил городские штаны и берет, в то время как мы все ходили в гандурах и фесках. По вечерам он мастерил свои силки из смазанных клеем веток оливкового дерева, утром я отправлялся с ним в заросли и помогал прятать в кустах ловушки. Каждый раз, когда на них сверху садилась птица и начинала неистово бить крыльями, мы бросались к ней, сажали в клетку и ждали, когда в западню попадутся другие. А потом ходили по улицам и предлагали наши охотничьи трофеи начинающим птицеловам.
Именно с Уари я заработал свои первые гроши. Он никогда не жульничал. По завершении нашей экспедиции, растягивавшейся на несколько дней, я шел за ним в какое-нибудь спокойное местечко, и он высыпал на землю содержимое ягдташа, служившего ему кошельком. Одно су он брал себе, второе отдавал мне и так далее до тех пор, пока делить было нечего. Затем отводил меня в патио и исчезал. На следующий день я опять приходил к нему в вольер. Он настолько мог обходиться без меня, да и без посторонней помощи вообще, что сам ко мне, скорее всего, никогда бы не пришел.
С Уари мне было хорошо. Он был уверен в себе, спокоен и безмятежен. Даже чертов Дахо и тот оставил нас в покое. У него был мрачный, тяжелый, непроницаемый взгляд, перед которым пасовали местные задиры. Говорил Уари мало, что правда, то правда, но, когда хмурил брови, пацаны задавали такого стрекача, что за ними едва поспевали собственные тени. Думаю, что рядом с Уари я был счастлив. Я пристрастился к охоте на щеглов и узнал очень многое о ловушках и искусстве маскировки.
Но в один вечер, когда я надеялся вселить в душу отца гордость за меня, все рухнуло. Я дождался, когда все поужинают, вынул из укромного местечка кошелек и дрожащей рукой протянул родителю плоды моих трудов.