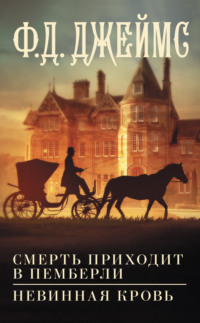Полная версия
Невинная кровь
Со временем Пэлфри становился все более желчным, придирался к любым мелочам. К примеру, его раздражало, как обучаемые сокращают свои имена. Ну что это за Билл, Берт, Майк, Джефф, Стив? Порой преподавателя так и подмывало спросить: неужто приверженность марксистским идеям несовместима с двусложными прозваниями? А их убогий словарь! На последних семинарах, посвященных правам малолетних граждан, студенты постоянно толковали о каких-то «ребятах». Морис же методично и строго к месту употреблял термины «подростки» или «дети». Группу это бесило. И все-таки, не в силах удержаться, он выговаривал студентам, будто нашкодившим третьеклашкам: «В ваших работах я исправил кое-какие грамматические и орфографические ошибки. Считайте меня буржуазным педантом, однако тому, кто намерен учинить общественный переворот, придется убеждать не только наивных невежд, но и образованных, ученых людей. Для этой цели не помешает выработать собственный стиль вместо жутковатой смеси социологического жаргона и словаря, скорее подходящего троечникам из школы для особо одаренных. Между прочим, прилагательное «непристойный» означает «распутный», «неприличный», «грязный» и вряд ли подходит для описания политики правительства, отказавшегося воплотить в жизнь закон о льготах для неполных семей, какого бы порицания ни заслуживал подобный шаг».
Майк Бил, главный подстрекатель группы, получив свое последнее эссе, пробормотал нечто неразборчивое. Кажется, это были слова «урод недорезанный», хотя непохоже: ругательства Майка неизменно включали в себя что-нибудь связанное с фашистами. Теперь Бил уже окончил второй курс. Если повезет, к новой осени он оставит учебу и получит от местных властей какую-нибудь социальную работу, где, без сомнения, примется вбивать в головы юным бунтарям, что иногда мелкий грабеж с применением насилия – всего лишь ответ бедноты на тиранию капиталистов и стимул для владельцев недвижимости, подыскивающих отговорки, чтобы не платить ренту. Но его место займут другие, и старая академическая машина продолжит скрипеть как ни в чем не бывало. Самое забавное в том, что, в сущности, Морис и Майк придерживались одних и тех же взглядов. Социалист и социолог, Пэлфри чувствовал себя старым воином, давно разуверившимся в идее, за которую борется, однако знать, что идет сражение, и знать свою сторону на поле боя – для него уже было достаточно. И потом, не отступать же после стольких лет!
Он сунул в портфель несколько писем, которые нашел поутру на столе. Одно было от члена парламента, социалиста, желающего заручиться поддержкой на всеобщих выборах в начале октября. Не будет ли Морис так любезен принять участие в партийных теледебатах? Пожалуй, почему бы нет; «ящик» сам по себе освящает личность, попавшую в кадр, дарует известность, а с ней, разумеется, и доверие. Второе письмо содержало очередной призыв подать заявку на кафедру социальной работы в северном отделении университета. Ясно, почему они так носятся с этой кафедрой. В последнее время было много назначений вне поля соцработы. Те, кто возмущался, не понимали одного: главную роль играет качество академической работы и научных исследований, а не предмет, за который взялся кандидат. Учитывая современную борьбу за кафедры, социологам придется предъявить академическую респектабельность вместо того, чтобы гоняться за дешевым и нелепым профессионализмом. Пэлфри все больше раздражала болезненная чувствительность коллег, их неуверенность, вечные жалобы на общество, требующее, чтобы они немедленно исцелили все его недуги, тогда как Морис мечтал излечиться от своего собственного.
Он отложил еще несколько бумаг и запер ящик стола. Вспомнилось, что вечером на ужин зайдут Клегорны. Клегорн был опекуном нового фонда, исследующего причины подросткового бунтарства и способы борьбы с ними, а одна из бывших студенток Мориса как раз подыскивала подобную работу. Вот почему полезно давать ужины почаще: тогда и приглашение «нужного» человека не выглядит явной попыткой к нему подольститься. Закрывая за собой дверь, Пэлфри подумал без особого любопытства, куда это Филиппа могла уйти так рано и не забудет ли вечером украсить цветами стол.
4Наконец она вернулась на Ливерпуль-стрит и провела остаток дня, гуляя по городу. Дождь почти уже перестал, и только легкая изморось покалывала разгоряченное лицо Филиппы ледяными иголками. Хотя мостовая сверкала, точно после сильного ливня, и в сточных канавах собралось несколько мелких луж, тяжелых и серых, точно створоженное молоко, дом шестьдесят восьмой выглядел так же, как и в любой скучный летний вечер. Со стороны это возвращение не отличалось от прочих. В кухне, как обычно, горел яркий свет, остальные комнаты были погружены в полумрак, не считая огня, что мерцал из коридора сквозь элегантную фрамугу парадной двери.
Кухня располагалась на нижнем этаже, окнами на улицу, столовая же выходила двустворчатыми стеклянными дверями в сад. Всю верхнюю часть дома занимала гостиная. Оттуда тоже можно было спуститься к саду по изящным литым ступенькам. Летними вечерами семья пила кофе во внутреннем дворике, сидя на стульях под смоковницей. Огороженный сад в три десятка футов длиной наполняли ароматы роз. Выкрашенные в белый цвет кадки с геранью кроваво багровели в предзакатные часы и бледнели, когда во дворике зажигались огни.
В кухне свет никогда не выключался, однако Хильда и не думала задергивать занавески. Возможно, ей не приходило в голову, что для внешнего мира она – точно актриса под лучами сценических прожекторов. Филиппа присела на корточки, обхватив перила, и принялась подсматривать за ней. Супруга Мориса уже начала колдовать над ужином. Готовила она с особой торжественностью, словно верховная жрица, исполняющая священный обряд. Устремив в поваренную книгу немигающий, оценивающий взгляд художника, который примеряется к модели, Хильда быстро коснулась ладонью каждого из продуктов, разложенных заранее, словно дары для благословения. Ежедневно она вычищала и тщательно убирала весь дом, но так, будто бы тот не имел к ней никакого отношения. И только здесь, в организованной путанице кухни, она ощущала себя в своей стихии. Отсюда, из-под двойной защиты зарешеченных окон и зубчатой ограды над ними, миссис Пэлфри взирала на мир – и видела лишь обрывочный поток чьих-то спешащих ног. Ее светлые длинные волосы, обычно распущенные по плечам, на сей раз были убраны со лба двумя пластмассовыми гребенками. В неизменном белоснежном фартуке она казалась юной и беззащитной, точно школьница на практическом экзамене или новая кухарка перед первым ответственным ужином. Кстати, служанку Хильда напоминала не потому, что сама готовила, – многие богатейшие дамы от скуки делали то же, это стало модным ремеслом, едва ли не культом. Должно быть, дело в ее вечно смятенных глазах, которые словно ждали – да нет, почти напрашивались на упрек и тем самым придавали сходство с женщиной, зарабатывающей на жизнь прилежным трудом.
Филиппа совсем забыла о званом ужине. Ага, теперь ясно, что будет на первое. Шесть больших, красивых артишоков возлежали посреди стола, ожидая, когда их опустят в кастрюлю. Залитая светом двойной флуоресцентной лампы, кухня выглядела родной и знакомой, словно картинка на стене в детской. Плетеное кресло с потрепанной лоскутной подушкой стояло в одиночестве. Второе так и не потребовалось: ни Морис, ни Филиппа не имели привычки отдыхать на кухне, пока Хильда готовила. На полке теснились помятые книги рецептов в засаленных обложках. Рядом с настенным телефоном висел календарь с крикливой голубой фотографией гавани Бриксхэма[8]. Работал переносной черно-белый телевизор: цветной находился в гостиной. Девушка не могла припомнить, чтобы миссис Пэлфри когда-нибудь сидела там. Да и зачем? Ведь это была не ее гостиная. Все в ней напоминало о прежней жене Мориса или соответствовало его личному вкусу.
Филиппа не слышала, чтобы приемный отец хоть раз заговорил о Хелене, однако подозревала, что чувства Хильды или неисцеленные сердечные раны здесь ни при чем. Она давным-давно поняла: Морис не из тех, кто выплескивает эмоции наружу, делится своей внутренней жизнью с другими. Время от времени Филиппа вяло интересовалась личностью Хелены, окруженной из-за ранней смерти печальным очарованием и благородством. Лишь однажды девушке довелось найти ее портрет. Это случилось на распродаже в Оксфорде, устроенной в помощь благотворительной организации «Оксфам». Кто-то из родителей пожертвовал целую стопку старых светских журналов. Они расходились особенно быстро. Люди охотно тратили один или два пенни ради мимолетных радостей ностальгии. Пролистывая глянцевые страницы, покупатели довольно хихикали: «Смотри-ка, Молли и Джон в Хенлей-на-Темзе. Бог мой, неужели мы носили такие юбки?»
Копаясь в журналах на лотке, Филиппа с изумлением наткнулась на лицо Мориса. До боли знакомый, он смущенно и бессмысленно улыбался, как человек, захваченный врасплох вспышкой камеры и не успевший выбрать для себя нужное выражение. Фото сделали на свадьбе. Подпись гласила: «Мистер Морис Пэлфри и леди Хелена Пэлфри беседуют с сэром Джорджем и леди Скотт-Харрис». Но молодые ни с кем не беседовали; они просто глазели в объектив с бокалами шампанского в руках, словно готовились произнести тост в честь краткого мига их новой жизни, увековеченного с помощью эфемерных точек газетной фотографии. Леди Хелена Пэлфри с улыбкой возвышалась над мужем в широкополой шляпе и удивительно короткой юбке. Темные локоны обрамляли уже не юное, костистое, почти страдальческое лицо с густыми бровями.
Филиппа оставила вырезку себе, спрятала в одной из книг и хранила почти год. Иногда она доставала портрет при свете лампы в своей спальне и долго, пристально вглядывалась, силясь разгадать тайну этой женщины, их любви, если та когда-нибудь существовала, их разделенной жизни с Морисом. В конце концов разочаровалась, порвала фото и спустила клочки в унитаз.
И вот теперь с таким же вниманием Филиппа всматривалась через решетки в живую жену приемного отца. Та склонилась над столом и аккуратно разворачивала узкие полоски мясного филе. Похоже, гостей ожидала телятина под винно-грибным соусом. Клегорны непременно похвалят угощение – куда они денутся. Девушка где-то читала, что последняя война окончательно убила сдержанность англичан в отношении пищи. Теперь большинство женщин и порой даже мужчины восхищались блюдами, любопытствовали, обменивались рецептами. Правда, в случае Хильды комплименты становились неумеренными, натянутыми, неискренними чуть ли не до тошноты. Гости будто бы считали своим долгом успокоить, а то и утешить хозяйку, хоть как-то повысить ее самооценку. За все время их брака друзья и знакомые мужа обращались с ней так, словно кухня была ее единственной страстью, первой и последней темой, которая могла ее затронуть. И вот, пожалуй, этим и кончилось.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Из поэмы «От Элоизы к Абеларду» Александра Поупа. –Здесь и далее примеч. пер.
2
Герои романа Джейн Остен «Эмма».
3
Рен, Кристофер (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном. Представитель классицизма.
4
Гиббонс, Гринлинг (1648–1721) – английский скульптор; выдающийся резчик по дереву.
5
Рубильяк, Луи-Франсуа (1695–1762) – французский скульптор; жил и умер в Лондоне.
6
Морланд, Джордж (1763–1804) – английский художник.
7
Облигато (ит. obbligato, от лат. obligatus – обязательный, непременный) – партия инструмента в музыкальном произведении, которая не может быть опущена и должна исполняться обязательно.
8
Бриксхэм расположен на юго-западном побережье Великобритании; небольшой живописный городок, раскинувшийся на холмах, окружающих гавань, которая является одним из основных рыболовецких портов и курортных мест.