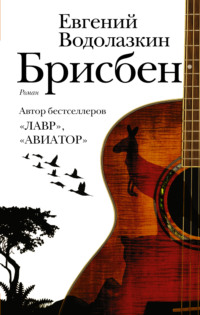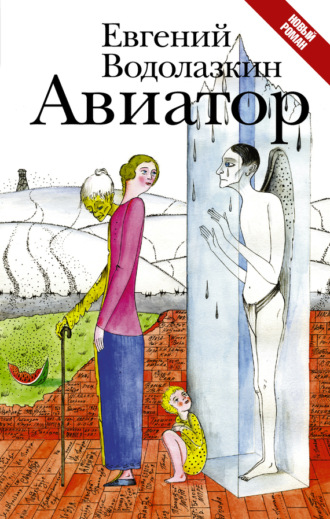
Полная версия
Авиатор
– Платонов, отчего губы черные?
Кто спрашивает? И что ему до моих губ?
– Так, почернели отчего-то. От жизни, возможно.
Оглядываюсь вокруг – такая Божья красота. Море, солнце садится. А если подняться на гору, то видно, что это остров. Часть суши, окруженная небом. Волн нет, поверхность как полированная, не шелохнется, водная именно что гладь. И дорожка на воде, ангелы летают. Страшно оттого, что, как только дорожка уйдет, всё погрузится во мрак, и что на месте этой красоты начнется, никому не известно. И кто там будет вместо ангелов летать, тоже неизвестно. Вот потому, должно быть, Робинзону днем было еще куда ни шло, а на закате – по-настоящему страшно. Страшна сама мысль о погружении во мрак, она сжимает сердце, как тиски, и ты изо всех сил сдерживаешься, чтобы не закричать.
Услышав мой крик, в палату вбежала сестра Валентина. Обняла меня и поцеловала в лоб. Достав из кармана платок, вытерла мои слезы. Прижала другой платок к моему носу.
– Сморкайтесь!
– Мы же на “ты”…
– Тогда сморкайся!
Я сморкнулся. Невозможно ведь сморкаться в чью-то руку, будучи с человеком на “вы”.
– Приснилось что-то страшное? – Валентина смотрит на меня, не мигая. – Приснилось, скажи?
– Приснилось. А может быть – вспомнилось.
– Что вспомнилось? Это же важно.
– Остров. Тяжелое ощущение.
– Какой остров? Название помнишь?
– Необитаемый. Не мучай меня. Ляг рядом.
Валентина ложится рядом и гладит меня по волосам.
– Может, тебе приснилось, что ты – Робизон Крузо? Такие случаи нередки. Когда у человека мало собственных жизненных впечатлений…
– Может, и приснилось. Молчи… Молись за меня и молчи.
ПонедельникЗарецкий по вечерам тихо пил водку и закусывал колбасой. Звук набрасываемого на петлю крючка, шорох расстилаемой газеты, бульканье огненной воды. Однажды пьяный Зарецкий рассказал мне, что проносит колбасу через проходную в кальсонах. Под рубахой опоясывается веревкой. К этой веревке спереди привязывает на нитке колбасу и засовывает в кальсоны.
– Если нащупают, – хихикнул Зарецкий, – скажу: писька. Я ведь не помногу выношу, только чтобы вечером покушать.
Так в точности и сказал – писька… Была ли она у самого Зарецкого? Есть люди, с которыми такие подробности не соединяются.
С тех пор как я узнал о способе проноса колбасы, боялся, что он пригласит меня на ужин. Нальет водки, предложит закусить колбасой – тут-то меня и вырвет… Напрасно я боялся: эти пиры Валтасара проходили в одиночку. Зарецкий вообще никогда никого не приглашал. И хотя в разговорах с женщинами (я слышал это не раз) голос его неизменно теплел, к себе в комнату он не приглашал даже их. Орган, который Зарецкий так удачно имитировал на проходной, был ему по большому счету без надобности.
Помню скорбную фигуру Зарецкого на кухне, у примуса, с одному ему присущим запахом – смесью водки, керосина, колбасы и немытого тела. В едва мерцающем свете электрической лампочки. Мне казалось, что в присутствии этого человека она просто не может гореть ярче, но – так она горела и без него. Иногда после многократного мигания совершенно гасла, и в кухне оставалось лишь ничего не освещающее пламя горелки. Когда через какое-то время лампочка загоралась, у примуса вновь обнаруживался Зарецкий. Рука на вентиле.
Открывал вентиль чуть-чуть, отчего всё, что стояло на огне, закипало очень медленно. Так он пытался сэкономить керосин. А может быть, просто искал повода подольше задержаться на кухне. Да, он ни с кем не сходился, но какое-то общение требовалось, по-видимому, даже ему. Можно было бы сказать, что Зарецкий одинок, если бы это слово передавало происходящее с нашим соседом. Одинок ли в стволе древесный червь? А ведь было в нем что-то от червя. Гибкость, мягкость. Способность принимать температуру окружающей среды.
ПонедельникСегодня Гейгер мне говорит:
– В 1941–1945 годах была Великая Отечественная война, иначе – Вторая мировая.
– В мое время, – отвечаю, – Великой называлась та война, что началась в 1914-м.
– Вот-вот, – кивает Гейгер, – сейчас она называется Первой мировой.
Долго рассказывал мне о Великой Отечественной войне. Не верится… Не верится. Хотя – почему, собственно?
ВторникЗапах цветов в Сиверской. Их выращивали на многих дачах. Снимая дачу, городские особо оговаривали наличие клумбы, и цветы благодарно благоухали. По вечерам, когда стихало малейшее дуновение ветра, воздух превращался в нектар. Его можно было пить – что мы и делали, сидя на открытой веранде, любуясь пронзительным закатом (ближе к концу лета – в полумраке, со свечой).
Дачники любили хризантемы – особенно после того, как Анастасия Вяльцева спела о них романс. Пела здесь же, в Сиверской, в усадьбе барона Фредерикса, а я стоял на другом берегу Оредежи и слушал ее голос. Этот голос свободно летел по воде, сопровождаемый огнями усадьбы, я же на своем берегу ловил каждую ноту. Приходил в отчаяние, когда налетевший ветер шумел листвой, дрожал от ночного холода и переполнявших меня новых чувств.
В этот год мы купили патефон и слушали Вяльцеву с утра до вечера, и почти все дачники слушали. Вяльцева же, сиверская дачница, прогуливалась мимо чужих дач и слушала сама себя. Иногда подпевала. И хризантемы были увядшими, и в фамилии певицы слышалось увядание – как-то так в ее пении всё вместе сходилось, что редко кто не плакал. Пронзительное было пение.
Об увядании. Привез папа из города астраханский арбуз. Помыли его – полосатый, блестящий, с хвостиком. Щелкали пальцами по поверхности – донг! донг! – густой звук, упругий. Настоящий. Не имелось среди нас специалистов по арбузам, но было очевидно: не может так плохой арбуз звучать. Папа разре́зал его на две части – и точно: красный, исходит соком, и пахнет от него концом лета. Потом от каждой из половин отреза́л сверкающие на солнце полукружия.
Когда мы арбуз съели, остались ровные зеленые корки, очень красивые. Я не дал их выбросить и положил под крыльцо, чтобы ими впоследствии любоваться. На следующий день они потеряли свой глянец, а еще через пару дней сморщились. Я все-таки не давал их бросить в ведро, потому что помнил их красоту, они еще лежали под крыльцом какое-то время. Облепленные мухами. Я понял тогда: красота вянет очень быстро.
Помню, как на Большом проспекте мы ели арбуз с Анастасией, ее отцом и моей мамой. Это было в том странном овальном зале, который остался за Ворониными после “уплотнения” их квартиры. Тот, городской, арбуз так и остался загадкой – в Петрограде тогда хлеба не было, а тут вдруг арбуз… Его Воронину сунул в руки какой-то человек в шинели (тогда многие в шинелях ходили) прямо на улице. Подмигнул – вкушай, мол, и смешался с толпой. Воронин застенчиво улыбался, но ничего не мог нам объяснить.
Арбуз уже не так блестел, как тогда, в Сиверской, но ведь и время было другое. Мама следила за тем, как Воронин разреза́л арбуз – он делал это не так ловко, как наш папа, нож то и дело уходил вбок. Я же следил за мамой, и она это знала, потому что мы вспоминали одно и то же. А еще я смотрел на Анастасию и думал, что вот, когда-нибудь она тоже увянет, что свежее, светящееся ее лицо сморщится, как арбузная корка. Может ли такое быть? И отвечал: не может.
СредаИзмерили мне сегодня температуру – 36,6. Впервые за всё время измерений. Гейгер сказал, что положительная динамика налицо. Это, правда, была утренняя температура, к вечеру дело немного ухудшилось – 37,1. Все-таки переползла ртуть за красную черту – на одно деление, но переползла. У меня на острове часто была высокая температура – особенно в лазарете.
Лазарет на горе. Лежим на плотно сдвинутых нарах. Постельного белья нет, голые доски. И мы голые – нательного белья тоже ведь ни у кого нет. Да и бесполезно: у многих тифозных понос, все нары им испачканы. Хочешь повернуться – обязательно рукой в дерьмо влезешь, засохшее или свежее. Чужое или свое. Рука скользит по доске. По нужде не у всех есть силы встать, так под себя и делают. А что скажешь – даже на ругань нет сил.
С горы если посмотреть, весь остров видно, а дальше – море, сколько хватает глаз, замерзшее, потому что месяц февраль. Нас, голых, с горы гоняли вниз в баню, там версты две. И после бани распаренных – обратно. А мороз минус двадцать, метель. Ве́тра, правда, нет, оттого что в лесу идем. Босые ноги на утоптанном снегу скользят, то один, то другой падает – не столько от скользкого снега, сколько от потери сил. При высокой температуре или жа́ре первые секунды даже приятно, а потом сразу замерзаешь до того, что не можешь двигаться. Некоторые, падая, уже не вставали, и их волочили за руку или за ногу. А они кричали. Только так и можно было понять, что живы. Когда они замолкали, был слышен скрип снега под ногами.
Конечно, многие из нас после этого умерли, человек имеет свои пределы. Играет роль еще и то, что никто уже не цеплялся за жизнь, а без этого трудно выжить: человек, считай, умирает тогда, когда его охватывает безразличие. Лежит рядом с тобой, бредит или говорит что-то разумное – и вдруг замолкает. Обернешься, увидишь его отвалившуюся челюсть и понимаешь: умер. И долго может так лежать, потому что никто сюда не войдет, а если и войдет, то вытаскивать его не бросится. Он лежит, а тебе даже спокойно – не вскрикивает, руками не размахивает.
Я позвал сестру Валентину – спокойным вроде бы голосом, жестом предложил сесть у моей кровати, спросил, как дела. А потом не выдержал и разрыдался. Превращаюсь в форменного истерика.
ЧетвергВ Сиверской было место, которое называлось Жаркие страны. Пляж на Оредежи под красным глиняным обрывом. В этих местах всё было красным, и, кстати, красный конь Петрова-Водкина родом именно отсюда. Другой конь был бы здесь просто невозможен. Это был цвет жарких стран – у Робинзона, я думаю, всё было таким. Ну, может быть, еще голубым и зеленым, но эти цвета, если разобраться, были и в Сиверской. Загорая в Жарких странах, думал о необитаемом острове. Ощущал щекой горячий песок. Чтобы уберечься от солнечных лучей, Робинзон ходил в одежде из козьих шкур. Он мог бы ходить в этой одежде и по Сиверской, и никто бы не удивился – тамошние дачники и не так одевались.
Лежа однажды в Жарких странах, я поднял голову и не увидел никого. Вообще никого – ни на берегах Оредежи, ни в самой реке. Обязательно ведь кто-то раньше бывал. Я встал, взял сумку и двинулся вдоль берега. Перешел по мостику через реку – и там пусто. Вначале думал, что мне показалось, что люди просто прячутся или на время отошли по делам, но – их действительно не было. Я шел и с каждой минутой утверждался в том, что произошло нечто, освободившее землю от людей. По крайней мере, сиверскую землю.
Это было не просто ощущение – уверенность. Слишком многое указывало на полную безлюдность. Ветер в соснах шумел так, как никогда не позволял себе шуметь прежде. Оредежь сверкала ранее невиданными искрами. Во всём чувствовалось освобождение, в присутствии людей совершенно невозможное. Всё, что подавлялось ранее самим человеческим существованием, стремилось теперь к пределам своих возможностей: деревья – в зелени, небеса – в голубизне. В том, как петляла река, сквозила какая-то первозданность, да и само название Оредежь было первозданным. Такие имена не даются людьми, они создаются самой природой – как изогнутые коряги у воды, как источенные ветром скалы. Текла здесь Оредежь до людей, а теперь течет после них.
Река выбрасывала мне навстречу изгиб за изгибом, и всё не кончалась, и всё выше поднимались над ней красные утесы. Я шел, и чувство обладания этой прекрасной землей переполняло меня. Непредсказуемость Оредежи, свежесть ее ветра, колыханье трав у воды – всё это принадлежало мне одному. Я обходил свои владения, которые (стук дятла по сосне) прекрасно знали, что никто ими больше не владеет, что власть моя весьма условна. На всю реку и на все леса я был один, и ничто им с моей стороны не могло угрожать. Я же устраивал им смотр и проходил мимо них, как проходит командующий на параде – неестественно вывернув голову, временами останавливаясь и приветствуя. Что-то откликалось мне – махало ветками, свистело, каркало, а что-то и не откликалось, оставалось даже не замеченным мной. Но каждое мое наблюдение имело первостепенное значение, потому что теперь я был единственным, кто обладал полнотой этого знания.
Дорога поднималась вместе с берегом. Как-то незаметно река оказалась вне пределов видимости, на дне оврага. О том, что там, внизу, не одна лишь вода, но и земля, говорили верхушки деревьев, едва поднимавшиеся над обрывом. Я мог бы коснуться этих верхушек, если бы подошел к краю обрыва. Но я не подходил.
Над рекой всё еще стояли дома, только теперь они были безнадежно пусты. Эти дома уже обвивались вьюном, прорастали травами и деревьями, становясь частью природы. Крыши их ветшали на глазах, прогибались и вот-вот готовы были провалиться. Незакрытые их двери то и дело скрипели на ветру. Сквозняки шевелили на окнах полуистлевшие занавески.
Я чувствовал, как внутри меня стал расти ужас, и это был ужас одиночества. Берег вновь стал опускаться. Внизу я заметил мостик через реку и бросился к нему. Под моими ногами гулко застучали доски. Они колебались и бились друг о друга, отдаваясь эхом. Их шум продолжался и тогда, когда я был уже на берегу, словно невидимая армия природы преследовала меня как последнее не принадлежащее ей создание. Я перешел на бег (не от страха – от тоски) и помчался через лес к дому. Невыносимо было представить, что и дома меня никто не ждет. Большой мир мог прийти к концу, но это был бы еще не полный конец. Я все-таки не терял надежду, что мой малый, семейный мир устоял. Я бежал и плакал, и чувствовал, как мои слезы скатывались по щекам, как от плача сбивалось дыхание.
Когда я приблизился к дому, начинало темнеть. В светящемся электрическим светом окне я увидел папу. Он сидел в своей любимой позе, положив ногу на ногу, замкнув руки на затылке. Большими пальцами массировал шею. Мама наливала из самовара кипяток. Под огромным желтым абажуром всё это казалось ненастоящим. Казалось старой фотографией – оттого, может быть, что происходило беззвучно. Но отцовские пальцы на шее вполне явственно двигались, а кипяток из самовара тек, и от него поднимался пар. Не хватало лишь сказанного слова.
Мама подняла голову. Произнесла:
– Ну, вот ты и пришел, дружок.
Папа поймал мою руку и легко ее пожал.
Какое это было счастье. Такого счастья больше не помню.
ПятницаКогда мы въехали в воронинскую квартиру, Анастасии было пятнадцать лет. Всей квартирою подавали сведения для продуктовых карточек, и я узнал ее возраст. Едва ли не в первый день нашего вселения. Шесть лет разницы, подумал я, и сам удивился своей мысли. Эта мысль сопоставляла меня и Анастасию, а значит – связывала. Случайно ли я подумал о ней именно так? Не сопоставлял же я свой возраст с возрастом Зарецкого.
Почти сразу я стал узнавать Анастасию по шагам. Она шла мягко, ступала с пятки на носок. Воронин ходил шаркая. Зарецкий – словно на ходулях. О движении Анастасии я узнавал из своей комнаты по еле слышному скрипу половиц. По длине пути и щелканью электрического выключателя угадывал, куда она идет – в ванную, туалет или на кухню. Ванная и туалет были ближе, и выключатели там поворачивались с легким щелчком. Путь на кухню был самый длинный, а кухонный выключатель – громче других. При начале поворота раздавался жалобный звук пружины, при окончании – приглушенный выстрел. При звуке этого выстрела мне всякий раз хотелось выйти на кухню.
Иногда я все-таки выходил. Чаще всего – ночью, когда вся квартира уже спала. Анастасию, вставшую выпить воды, я заставал в ночной рубашке. В коммунальных квартирах каждый ест и пьет в своей комнате, но Воронины по старой привычке продолжали делать это на кухне. По привычке и ночная рубашка: в коммунальной жизни на нее обычно набрасывают халат.
Когда мы столкнулись в первый раз, Анастасия попросила прощения за свой вид: думала, все спят. Я ответил, что ничего страшного, – как-то излишне горячо ответил, и она бросила на меня удивленный взгляд. Когда мы сталкивались в дальнейшем, Анастасия была тоже в рубашке, но прощения больше не просила. Вероятно, тогда уже понимала, что сталкиваемся мы неслучайно. А еще понимала, что рубашка ей очень идет – шелковая, струящаяся с ее острых плеч.
Стояла спиной к кухонному шкафчику, упираясь ладонями в столешницу. Пальцами гладила бурое дерево (длинные пальцы). Так начинались наши ночные беседы, тише которых не было в моей жизни. Чтобы никого не разбудить, мы говорили шепотом. Шепот – особенный вид общения, я уж не говорю о ночном шепоте. Даже если говорить так о вещах обычных, они начинают выглядеть совершенно по-другому. А ведь мы говорили о необычных.
Глядя на нежную кожу Анастасии, я опять вспомнил об арбузных корках. Неожиданно для себя спросил ее:
– Вы не боитесь постареть?
Она не удивилась. Повела плечами.
– Я боюсь не старости… Смерти. Не быть страшно.
– А вы были бы готовы не умирать и только всё стареть, стареть?
– Не знаю. – Анастасия улыбнулась. – А почему, чтобы не умирать, нужно обязательно стареть?
– Ну, за всё ведь надо платить.
– Не за всё – за подарки не надо. Если бы был мне дан такой дар – не умирать без всяких условий…
– То – что?
– То жила бы! – она сказала это со смехом, почти прокричала. Испугалась. Прижала палец ко рту. – Сейчас все сбегутся…
Никто не сбежался.
СубботаТри последних дня у меня держалась нормальная температура, и Гейгер решил устроить мне прогулку в больничном дворе. Одевали меня долго и тщательно. Но главное – необычно. В куртку из непонятного материала, которую Гейгер назвал пуховиком. Немного похожа на то, что надевают идущие к полюсу. Сапоги на застежке-молнии. Застежка появилась еще на моей памяти, но на сапоги ее не пришивали. Несколько раз пробовал застегнуть и расстегнуть – славно. Гейгер очень боится меня застудить или заразить. Это, по его словам, одна из причин того, что мои контакты с внешним миром предельно ограничены. Зато, если всё пойдет гладко, предполагается, что прогулка будет ежедневной.
Выйдя во двор, задохнулся от резкости воздуха. Слёзы выступили. В больничных окнах увидел несколько пар глаз – смотрели на меня. Когда я поднял голову, спрятались. Значит, есть здесь все-таки люди.
Снег – хрустит. Изо рта – пар. Снял перчатки и потер снегом лицо (Гейгер попросил перчатки надеть). Раскачал ветку клена, вызвал снегопад. Стоим – Гейгер, Валентина и я – все в снегу. Смеемся.
А я ведь не люблю снега. На острове снег, бывало, до полугода лежал. Ходишь по нему в тряпичных туфлях, подвязанных бечевкой (уж какие там сапоги на молнии!), и никто особенно не интересуется, застудишься ты или нет. А если первым в отряде идешь, по непротоптанному пути, то снегу по пояс. Пусть даже вчера здесь ходили, так ведь за ночь опять сугробы намело. Шагаешь как можно шире, чтобы в один шаг побольше расстояние преодолеть. Тьма кромешная, продвигаешься на ощупь, то и дело натыкаешься ногой на утонувшие в снегу пни. А в руках двуручная пила. Зацепишься ногой за пень, падаешь вместе с пилой и думаешь: присыпало бы меня, что ли, сверху – так, чтобы нашли только весной. А весной взятки гладки, что весной от меня останется?
Я видел тех, кого находили весной, – их называли подснежниками – с выклеванными глазами, отгрызенными ушами. Чтобы, думалось, даже мертвым им больше не видеть конвоя, не слышать его матерной ругани. Как-то раз мне пришлось тащить одного замерзшего до траншеи с трупами. Я держал его под руки (тогда я уже не был брезглив), а ноги его подпрыгивали на кочках. Тащил и немного ему завидовал – эта жизнь его уже не касается, а меня всё еще.
Тогда, случалось, замерзали в лесу. Не по созревшему решению – от усталости. Отходили чуть вбок, садились на землю без сил, и замерзнуть им было, может быть, проще, чем встать и продолжать работу. Садились, невыспавшиеся, передохнуть – и засыпа́ли. И замерзали, поскольку сон смерти не помеха. Их быстро заносило снегом – попробуй потом найди. Таких, в общем, не очень-то и искали: понимали, что они замерзли, а не сбежали, некуда было с острова бежать. Знали, что весной найдут.
Гейгер сказал, что, если эта прогулка пройдет хорошо, буду выходить каждый день. Глядя на него, думал о том, что он, должно быть, так же, как я, лежит с Валентиной. То есть не так же, ох не так же, догадываюсь как… Чем больница хороша для романов – в ней много коек.
ВоскресеньеСегодня в моей палате установили телевизор. Гейгер долго мне объяснял, как он устроен и как с ним обращаться. Я научился довольно быстро. Глядя, как я уверенно нажимаю на пульт, Гейгер, по-моему, был слегка разочарован. Он рассчитывал, что удивление мое будет велико. Да оно, собственно, и велико. Но синематограф удивлял меня в свое время сильнее – не говоря уже о том, что экран там неизмеримо больше. Хотя и без звука.
– Слово громоздкое, – сказал я Гейгеру о телевизоре.
– Говорите телик, – ответил он.
Есть в этом что-то телячье, я еще подумаю, сто́ит ли мне так говорить. Мы с Гейгером смотрели рассказ о новостях. Я почти ничего не понял – во многом потому, что думал об издаваемых телевизором звуках – словах, музыке, вое сирены. Да, со звуком – это совсем другое дело…
– Что такое дефолт? – спрашиваю.
– Прошлым летом деньги обесценились.
– И что же теперь делать?
– Меньше воровать, наверное. Только в России это невозможно.
Уже второй раз слышу от него про воровство. Но ведь всегда воровали – в тысяча девятьсот девяносто девятом, в тысяча восемьсот девяносто девятом, и во все прочие годы тоже. Почему же это его так задевает – потому что немец? Немцы, я думаю, в таких размерах этим не занимаются, им удивительно, что можно так беззаветно воровать. Нам тоже удивительно, но – воруем.
На экране телевизора дома́. Нет в них прежней монументальности, легкие они какие-то, даже удивительно, как стоят. Стекла много, металла. Иногда архитектурной мысли не понять – нечто застекленное. Чувствую взгляд Гейгера.
– Нравится? – это он про дома.
– Я привык, что дома из кирпичей, – отвечаю. – К покатой крыше привык.
– Так ведь это Москву показывают, а в Питере – всё как вы любите. Когда начнете выходить на улицу – сами увидите.
Когда я начну выходить? – захотелось спросить.
Не спросил. Сделал вид, что увлечен телевизором.
Машины ездят забавные. Совсем не похожи на те, что были в мое время… Только теперь ведь и это время – мое, и Гейгер хочет, чтобы я в нем обживался. Следит за моей реакцией.
– Что вы чувствуете, – спрашивает, – оказавшись в новой, по сути, стране?
– Чувствую, что у нее новые сложности.
Улыбаюсь. Гейгер тоже улыбается – с долей удивления: ожидал чего-то другого.
– У всякого времени свои сложности. Их надо преодолевать.
– Или избегать.
Смотрит на меня внимательно. Произносит вполголоса:
– Вам-то не удалось…
Не удалось. Гейгер, по-моему, общественный человек. А я нет. Страна – не моя мера, и даже народ – не моя. Хотел сказать: человек – вот мера, но это звучит как фраза. Хотя… Разве фразы не бывают истинными – особенно если они результат жизненного опыта? Бывают, конечно. Запишу, пусть Гейгер читает.
Ему, между прочим, кажется, что пишу я не совсем обычно. Что он имеет в виду, толком не поясняет. Так, легкий, говорит, несовременный акцент, но если не знать моей истории, то вроде как и незаметно. Ну и славно. А я, напротив, слышу, что они с Валентиной говорят не так, как говорили прежде мы. Появилась большая раскованность, а еще, может быть, хромота в интонации. Вполне, кстати, прелестная. Пытаюсь всё это перенять – у меня хорошее ухо.
ПонедельникСегодня весь день смотрел телевизор. Переключал каналы. На одном поют, на другом танцуют, на третьем говорят. Говорят бойко, раньше так не умели – главное, скорости такой не развивали. Особенно ведущий: произносит нараспев, делит речь не на фразы, а на вдохи. Всё может, только не вдыхать не может, иначе бы говорил без пауз. Виртуоз. Человек-язык.
Вошла с обедом Валентина.
– Так сейчас танцуют? – показываю на экран.
– Ну да, – улыбается, – приблизительно так. Не нравится?
– Да нет, почему. Энергично…
Самое смешное, что так в любительском театре Сиверской изображали бесноватых. Их исцеляли, а они танцевали. Точнее, их танец указывал на необходимость исцеления. С одним из актеров мы были знакомы, иногда он заходил к нам пить кофе. На сцене, в багровой подсветке он был внушителен, даже пугающ, а за столом на нашей веранде казался тщедушным. Промакивал салфеткою выступавший на лбу пот. Время от времени убивал на себе комара и аккуратно укладывал его на ту же салфетку. Уходя, вручал трофеи маме. В нетеатральной своей жизни он служил счетоводом, и фамилия его была Печёнкин.