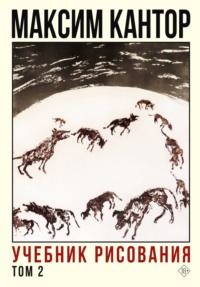Полная версия
Чертополох. Философия живописи
Леонардо да Винчи отнюдь не смешивал профессии, и это необходимо отчетливо обозначить. Профессия была одна-единственная – живопись; и он настаивал на преимуществах живописи перед прочими занятиями. Он занимался живописью – а все остальные его занятия являлись подготовительными работами для живописного труда. Просто живопись он рассматривал в ее идеальной ипостаси – как царицу всех искусств и ремесел. Чтобы качественно заниматься живописью, необходимо быть инженером и музыкантом – что же здесь непонятно?
Для нас уже не является откровением то, что Сезанн соединил две дисциплины в одну: живопись и рисунок стали для Сезанна единым процессом (для восемнадцатого века такое соединение двух начал в одно – невозможное кощунство); нам понятна фраза Сезанна «по мере того, как пишешь, – рисуешь» – фраза, которую представитель болонской школы понять бы не смог. Сезанн имел в виду то, что сам процесс нанесения цвета на изображаемый предмет может стать не раскрашиванием формы, но ее созданием, то есть рисованием. Теперь вообразите, что точно так же, как Сезанн соединил в одно целое процесс живописи и рисования, Леонардо объединил в одну дисциплину живопись, скульптуру, занятия анатомией, инженерное дело и архитектуру. Дать определение дисциплине, образованной объединением этих несхожих занятий, трудно – но Леонардо да Винчи считал, что конечным продуктом является живопись, масляная картина.
Нелишним будет вопрос: почему именно Леонардо снискал славу мирового гения, превосходящего всех, почему именно его картины считаются непревзойденными шедеврами, хотя одновременно с ним работают мастера, вряд ли уступающие ему пластическим или колористическим даром? Гуго ван дер Гус, Рогир ван дер Вейден, Альбрехт Дюрер, Сандро Боттичелли, Ян ван Эйк – это все живописцы, несомненно, гениальные, и живописное наследие их, между прочим, значительно обширнее, нежели наследие Леонардо. Однако имя Леонардо стоит неизмеримо выше любого из перечисленных мастеров. Имеется некий секрет – вероятно, простой и легко угадываемый; но понять его необходимо.
Картина – по Леонардо – не украшение жилища; он не стремился увидеть картину на стене. В Санта Мария делла Грацие – сложилось удачно, написал фреску; а из Флоренции уехал, не закончив работу. Картина также не есть свидетельство веры (и не может таковым быть, поскольку цель картины – анализ, а научный анализ противоречит вере). Картина пишется для себя самого – в процессе письма познается мир. Картина есть своего рода проект общежития, даже проект идеального государства (наподобие платоновского), конгломерат человеческих усилий.
Перефразируя Сезанна, в отношении метода Леонардо следует сказать: пока занимаешься инженерными работами – рисуешь, пока строишь здание – рисуешь, пока изучаешь анатомию – рисуешь, пока льешь бронзу, пока чертишь чертежи, пока пишешь трактаты, пока читаешь проповеди – ты рисуешь красками; ты постигаешь мир с разных сторон. Это все суммируется в рисование красками, это все вместе и есть – живопись.
Живопись он считал вершиной всех искусств, акмэ человеческой деятельности. Масляная живопись (он про это весьма ясно писал, двойного толкования быть не может) аккумулирует многие знания и позволяет единым взглядом постичь мир – в этом преимущество живописи и перед музыкой, и перед поэзией, и даже перед философией. Живопись, в представлении Леонардо, отнюдь не служанка философского дискурса, не иллюстрация к чужим концепциям; напротив, живопись есть предельное выражение суммы человеческих знаний. Собственно, живопись являет собой тот самый эйдос, который неоплатоники (слегка корректируя платоновскую идею) считали Логосом. Живопись, по Леонардо, – это и есть зримо явленный нам Логос.
Это рассуждение тем ценнее сегодня, что в нашу эпоху, отменяя живопись, заменяя ее инсталляцией или видеоартом, мы не учитываем того, что изначально живопись – вовсе не узкая специализация, но напротив, конгломерат умений, это дисциплина, включающая в себя несколько разных, в том числе и инсталляцию, разумеется. Инженерные знания, музыка, проза и архитектура, философия и медицина – суть эманации единого Логоса, цельного эйдоса, который нам явлен в виде совершенной картины. Картина «Джоконда» не противоречит фортификационным сооружениям и водолазным костюмам, но как бы источает знания, пользуясь которыми, производят фортификационные сооружения и водолазные костюмы.
2Вышесказанное объясняет то холодное спокойствие, с которым Леонардо подходил к работе живописца. Его картины не эмоциональны; они излучают своеобразное напряжение, но это не религиозный восторг, не страсть романтика. Это какое-то спокойное величие, даже, пожалуй, равнодушно-спокойное. Ждать от картины Леонардо страстного, экстатического, неряшливого мазка – так же нелепо, как ожидать, что Данте собьется в тройной рифме или Платон пожертвует конструкцией государства ради славы стихотворца. Леонардо принято пенять тем, что, создавая нежные образы мадонн, он одновременно сочинял конструкцию фортификационных машин или приспособлений для колесниц (серпы для внешней стороны колесницы на уровне колес), которые секли ноги лошадям противника. Распространенное утверждение о «равнодушной жестокости» Леонардо ставит под сомнение и духовность его живописных работ.
«Жестокость» Леонардо имеет ту же природу, что и «цинизм» Макиавелли – представления о таковых основаны на недостаточной информированности наблюдателя. Они оба, Леонардо и Макиавелли, исключительно рациональные люди, не теплые, не эмоциональные – это так. В характерах Леонардо да Винчи и Никколо Макиавелли много общего, что неудивительно: оба флорентийца жили в одно и то же время, мир на их глазах менялся стремительно – они искали точку опоры, чтобы избежать катастрофы. Представление о борьбе за абсолютную власть любой ценой (именно так часто трактуют «Государя») и обвинения Макиавелли в коварстве почти всегда исходят от тех людей, которые никогда не заглядывали в труды Макиавелли и не представляют, зачем таковые написаны. «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» дают отличный взгляд на государственное устройство, нежели «Государь», а дружба с убежденным конфедератом Гвиччардини (противником абсолютной власти в Италии) ставит под сомнение пристрастие к абсолютизму. Макиавелли вовсе не славил Чезаре Борджиа (принято считать, что «Государь» есть оправдание коварного Борджиа), он лишь описывал закономерность прихода этого типа власти в условиях современной ему Италии. Костер Савонаролы (а Макиавелли наблюдал всю эволюцию: олигархия – синьория – республика Иисуса Христа – оккупация Карла VIII) заставил его искать конструкцию, которая была бы практична. Труды Макиавелли следует воспринимать во всей противоречивости; то есть так, как следует воспринимать и живопись Леонардо.
В те годы главной болью гуманистов была мысль государственная – как обустроить социум, чтобы демократия не обернулась тиранией? У гуманистов, занимавшихся Античностью, имелось два примера: Спарта, сохранявшая казарменную демократию с выбранными царями в течение восьмисот лет; и Афины, где периоды свобод и законов демократии чередовались с тиранией, передававшей власть по наследству, и с властью олигархов. Как выстроить государство, не ущемив прав и дав возможность развития? Многовариантность олигархий и синьорий Италии приводила к некоторому разнообразию тираний (ср. XX век с вариантами тоталитарных диктатур), но требовался общий рецепт того, как избежать разъедающей общество заразы. Макиавелли сложил хвалебные тексты жестокому Ромулу (отдал должное Ромулу, а не Борджиа) на том основании, что Ромул избегал произвольных толкований государственности. Флоренция (родина Леонардо и Макиавелли) изменяла свой строй постоянно: Боттичелли сравнил ее с вечно преображающейся Венерой – в свое время про эту картину надо сказать подробнее – Леонардо же написал «Даму с горностаем» (Музей Чарторыйских, Краков), картину, на которой Мадонна вместо Спасителя нянчит хищника.
Что изображено на картине: загадочный проект? Конструкция социума? Пародия на материнство? Изображено, как обычно у Леонардо, все сразу: и то, и другое, и третье, да еще и оставлено малоприятное пророчество. Передать государственность через изображение горностая столь же естественно, как предложить подводный батискаф – это всего лишь самое доступное объяснение. Леонардо да Винчи настойчиво внушает нам мысль: конструкция мироздания рациональна; элементы ее взаимосвязаны. Рисунком можно высказать государственную мысль так же просто, как чертежом объясниться в любви. Инженерные чертежи и наброски фигур сплетаются у Леонардо в единый рисунок. Поглядите на чертежи машин, выполненные Леонардо, и его рисунки человеческих органов, сердца, например, – и сравните эти рисунки с его же портретами – вы увидите, что все линии выполнены тем же самым движением: Леонардо не видит разницы между инженерной конструкцией и человеческим внутренним или внешним устройством – это все единый мир явлений.
Будто бы нарочно, для того, чтобы потомкам было легче анализировать его метод, Леонардо оставляет незавершенной огромную доску «Поклонения волхвов» (сейчас в галерее Уффици, Флоренция). На картине мы буквально видим, как сложный архитектурный чертеж врастает в клубящийся рисунок человеческих фигур, а рисунок, в свою очередь, обрастает плотью живописи. Это все – единая субстанция: чертеж – рисунок – живопись, в этих элементах мироздания нет противоречия, они свободно перетекают один в другой.
Кстати сказать, наша уверенность в том, что эта работа не закончена, основана на мнении монахов Сан Донато – но отнюдь не исключено, что революционный во многих аспектах живописи Леонардо придерживался иного мнения. Сочетание чертежа, рисунка и живописи – то есть зримо явленный нам проект – что может быть лучшим воплощением идеи Спасителя, явившегося в мир, которому пришли поклониться Каспар, Бальтазар и Мельхиор? Изображен движущийся проект, растущее дерево («Бог – он баобаб растущий» – как наугад определила Цветаева в «Новогоднем», посвященном Рильке). И что же, если не задуманный проект, обозначает знаменитая полуулыбка Джоконды, беременной Богоматери, вынашивающей Иисуса – уж она-то знает, чему улыбается. Растущий сам из себя проект – вот основная тема Леонардо. Человек есть микрокосм, подобный в своих сочленениях и органике – мирозданию; механика есть органическая дисциплина, коренящаяся в природе, а не противоречащая ей; конструируя, человек усложняет природу и самого себя – человек постоянно совершенствует свой собственный проект. Все это если и не делает Леонардо агностиком, то весьма редуцирует его веру. Кредо Леонардо может быть сопоставлено с концепцией Пико делла Мирандолы, но Леонардо идет гораздо дальше – он не просто ставит человека в центр вселенной; но даже продукт сознания и труда человека он ставит вровень с творением Бога. Фактически он думает о симбиозе человека и машины, в котором машина есть органический проект, выдуманный человеком точь-в-точь так же, как сам человек некогда сотворен Богом. Творение творцов способно к творчеству; способностью к проектированию наделяется проект; живопись оказывается квинтэссенцией проектирования – в живописной технике Леонардо потому нет светотени, что нет обособленного предмета, который можно обойти со всех сторон; человек – это развернутый в будущее проект.
Бесконечность проектирования лучше всего передает картина, в которой святая Анна держит на коленях Деву Марию, а та, в свою очередь, держит младенца Иисуса (огромный рисунок к этой композиции хранится в Лондонской Национальной галерее, а сама картина в Лувре). В данной композиции воспроизведен принцип «матрешки» – одно появляется из другого; в сущности, Леонардо изобразил буквальное движение поколений. Это и есть разомкнутый в будущее проект, бесконечное творение, всегда обновляющееся создание проектирующего проекта.
Чтобы передать бесконечный переход проекта в проект, создать континуальное проектирование, Леонардо изобрел технику сфумато.
Техника сфумато – мягкая манера письма, со спрятанными противоречиями и контрастами, словно обволакивающая форму, словно плетущая паутину цвета, а не строящая цветовые планы. Технического секрета сфумато Леонардо потомкам не оставил – скорее всего, метод состоял в том, чтобы втирать краски в поверхность; вероятно, это было возможно за счет низкого содержания масла в пигменте. Леонардо сам готовил краски и (косвенно об этом свидетельствуют неудачные опыты с настенной живописью) изменил – по отношению к бургундскому рецепту – пропорцию связующих масел и пигмента. На стене краски не закрепились (как случилось с «Битвой при Ангиари» во Флоренции), но на шероховатой доске даже низкого содержания связующего должно было хватить. Масло с годами темнеет – так произошло с большинством бургундских картин, так случилось абсолютно со всеми голландскими картинами последующих веков; так случалось и с картинами итальянцев, которые копировали бургундскую технику. Картины Леонардо не изменили своих тонов – это может означать лишь одно: при составлении краски он добавлял масло весьма умеренно, а связующим во время письма выступало вообще не льняное масло. Рассказывают, что в «Битве при Ангиари» мастер пользовался мастикой (мастичным лаком), и мастика привела к еще более разрушительным последствиям, чем льняное масло: картина потекла. Вполне возможно, что в станковых масляных картинах он для смешения красок пользовался и не льняным маслом, и не мастичным лаком, и не кедровой смолой (как рекомендовали бургундцы – в частности, про это пишет Карель ван Мандер), но каким-либо сиккативом, который использовал в других опытах. Сиккативом (то есть отвердителем масляной краски) может выступать соль кобальта, свинца или марганца; эти соли в то время применяли алхимики в качестве индикаторов вещества. Леонардо вполне мог использовать соль свинца, например, добавляя ее в масляную краску.
Ван Мандер в своих описаниях работ нидерландцев рекомендовал в кедровую смолу и, особенно, в грунт доски – вливать глицерин и мед в качестве пластификаторов; то был своего рода субститут сиккатива, устранявший текучесть лака. Но результат был неубедителен. Впрочем, большинство тех художников, коих описывал ван Мандер, начинали свои вещи яичной темперой и лишь заканчивали маслом, поверх темперного слоя. Масло в таком случае призвано не только скрепить краску, но пробить нижний слой, проникнуть до основы. Как правило, эти вещи темнели (чтобы не сказать «чернели») от времени. Так иные медики, назначая лекарство, которое лечит один орган, но вредит другому органу, купируют вредное действие еще одним лекарством, которое в свою очередь тоже наносит вред – и так, пока пациент не умрет. Но что, если смешивая лекарства, фиксировать состояние пациента, утверждать стадию его здоровья? Леонардо смешивал краски до бесконечности. В его трактате «О смешивании красок» есть глава, которая так и называется – «О смешивании красок друг с другом, которое простирается в бесконечность» – совершенно в духе идеи бесконечного проектирования. А этого можно добиться, чтобы не произвести в смеси грязь, лишь в том случае, когда каждое очередное смешение фиксируется в качестве небывалого автономного цвета. То есть необходимо во всякой смеси фиксировать промежуточный результат. Возникает своего рода менделеевская таблица цветов. Иными словами, палитра Леонардо существенно богаче известного нам спектра. Кстати сказать, Леонардо придумал своеобразную форму палитры, которая – это предположение, но основанное на знании практического использования палитры – позволяет располагать краски в два уровня. Скорее всего, первичные краски лежали внешним полукругом, а внутренний полукруг образовывали смеси.
Существенно то, что эти, полученные в результате опытов, смеси, являлись сбалансированными самостоятельными цветами, а не случайным продуктом случайного сочетания цветов на палитре. Случайностей Леонардо вообще не признавал. Важно подчеркнуть, что смешивание цветов на палитре – процесс столь же объективный, как изучение сочленения костей.
Большинство живописцев этого не понимают, полагая, что палитра есть полигон страстей; для Леонардо такое утверждение было нелепостью.
Он склонен был относиться к своим коллегам презрительно (за что его, несомненно, недолюбливали), считал, что те тратят время на ерунду или вовсе бездельничают. Боттичелли считал лентяем, а это был еще положительный пример.
Однажды Пьетро Перуджино поинтересовался у Леонардо, отчего у того белки глаз такие красные; объяснение было простым: Леонардо всю ночь рисовал в анатомическом театре, глаза устали от напряжения. Когда вглядываешься в мелкие детали, глаза устают значительно больше, нежели от рассеянного взгляда, присущего, вообще говоря, живописцам. В течение столетий живописцев обучали «видеть в целом», смотреть, «обобщая», видеть всю форму целиком – это отношение идет от греческой пластики, разумеется; в академическом рисовании XVIII века этот общий взгляд стал правилом. Леонардо был категорически против обобщений. Никаких высказываний общего порядка мастер не делал и таковые не жаловал. Леонардо рисовал внутренности человека столь кропотливо оттого, что искал в переплетениях сухожилий, в сочленениях костей аналогии с другими структурами природы. Как правило, он рисовал параллельно: завихрение воды в течении реки – сплетение стеблей растения – ритмы разломов почвы при землетрясении – пучки сухожилий и мышц. У Леонардо нет не зарифмованных меж собой рисунков. Напряжение вглядывания связано с тем, что художник постоянно сравнивает явления. Надо определить меру соответствий, зафиксировать совпадения пропорций. Пропорция (именно пропорции посвятили свои труды и Леонардо и Дюрер; см. также Лука Паччоли «О Божественной пропорции», издание 1493 г.) есть не что иное, как критерий сравнения. Пропорция – это принцип логического рассуждения, необходимый для дискуссии. Не могу удержаться, чтобы не отметить и временного символического совпадения (пропорции во времени): трактат «О Божественной пропорции» издан одновременно со смертью Лоренцо Великолепного – и завершением определенной эпохи Ренессанса.
Данте называл «ангельским хлебом» (см. «Пир») знания, дающие логику беседе; для художника ангельским хлебом является изучение пропорций, то есть того модуля, который строит зримый мир. Сравнивая – познаешь, как любил повторять Николай Кузанский.
Объяснить живописцу Перуджино смысл своих занятий (Перуджино счел бы штудии анатомии занятиями отвлеченными) Леонардо не мог; да и вообще он считал, что «…живописец или рисовальщик должен быть отшельником… И если ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе. И если ты будешь в обществе одного-единственного товарища, то ты будешь принадлежать себе наполовину…», да и Перуджино он не особенно уважал. Леонардо говорил так: «Устрица во время полнолуния вся раскрывается, и когда краб ее видит, то бросает внутрь ее какой-нибудь камешек или стебель. И она не может закрыться и становится добычею краба. Так же и человек, не умеющий хранить тайну…» Тайна состояла в том, что, занимаясь анатомией, Леонардо учился живописи: учась сравнивать, учишься смешивать краски.
Смешение красок – это поиск цвета, которого буквально нет среди природных пигментов; небывалый цвет, вероятно, нужен, чтобы передать необычную эмоцию. Однако философ должен спросить себя, насколько разумно позволять себе испытывать необъяснимые эмоции. Насколько то, что невозможно выразить разумным обоснованием, является гармоничным чувством? Можно ли впускать импровизацию в свои чувства? Или чувства, как учит нас философия, обязаны быть гармоничными и согласованными, дабы человек не мог причинить зла другим. Если так, то перемешивание красок на палитре – процесс ответственный. Смесь надо готовить заранее и придерживаться логики. Трактаты того времени («возьми три части сухих белил, одну часть сиенской земли» и т. п.) показывают буквально, как поиск точного чувства соответствовал упражнению живописца с палитрой.
Живопись (для Леонардо – венец познания мира) есть торжество мышления, оперирующего пропорцией в суждениях: смешение красок есть не что иное, как размышление о пропорциях. Масляная живопись отшлифовала этот стиль мышления до совершенства.
В трактате «О живописи» Леонардо пишет так:
«Ум живописца должен быть подобен зеркалу, которое всегда превращается в цвет того предмета, который оно имеет в качестве объекта, и наполняется столькими образами, сколько существует предметов, ему противопоставленных. Итак, зная, что ты не можешь быть хорошим живописцем, если ты не являешься универсальным мастером в подражании своим искусством всем качествам форм, производимых природой, и что ты не сумеешь их сделать, если ты их не видел и не зарисовал в душе, ты, бродя по полям, поступай так, чтобы твое суждение обращалось на различные объекты, и последовательно рассматривай сначала один предмет, потом другой, составляя сборник из различных вещей, отборных и выбранных из менее хороших».
Но, позвольте, разве не так же точно поступал Пико делла Мирандола, тот, кого современники называли «фениксом былых культур», когда сопрягал положения разноречивых – по видимости – учений: каббалы, Платона, текстов Завета, Аверроэса?
3Леонардо не всегда добивался положительного результата в опытах (в технологии настенной живописи он ошибся), но с живописью станковой преуспел. Вообще говоря, уверенность в том, что Леонардо перенял технику масляной живописи из Бургундии (то есть через Антонелло от ван Эйков?..), имеет зыбкие основания. Его масляная живопись на живопись бургундцев не похожа. Скорее всего, Леонардо изобрел технику масляной живописи самостоятельно, параллельно с Губертом и Яном ван Эйками. Следует добавить, что масляная живопись на холсте полновластно воцарилась лишь после 1530 года, а до того повсеместно использовалась темперная живопись на досках, причем в темперу (о том есть несколько свидетельств) осторожно и произвольно начинали добавлять масло, чтобы сделать технику более гибкой и пластичной; клеевая основа с масляной субстанцией смешивалась дурно, но смешивалась; это именовали «масляной живописью». Зачем вообще масляная живопись? Ради чего художники приняли это новшество? Всех профессионалов соблазнила гибкая линия цвета, которую можно вести, оперируя мазком как карандашом. Кроющий эффект краски заменили прозрачными слоями – голубое небо Беллини, по которому несутся легкие прозрачные облака, невозможно написать темперой. Мантенья, который втирал темперу столь прозрачными, паутинными слоями (см. портрет Мадонны в Берлине), не мог не приветствовать масло, которое облегчило работу в сложных «Триумфах». Леонардо, очевидно, шел иным путем.
Сегодняшние реставраторы выступают против масел и лаков в принципе, уверяя, что сиккатив выполнит их функции, но не будет темнеть со временем. Можно предположить, что, пользуясь сиккативом, Леонардо добился высокой концентрации пигмента в краске и смог работать почти сухой кистью (то есть не вести мокрую линию, не заливать поверхность текучей краской), но сохранить вариабельность, буквально втирать пигмент в пигмент. Поглядите на скол мрамора или гранита пристально – вы увидите мириады кристаллов, каждая из крупиц сохраняет свой цвет, хотя вместе они образуют единую по тону и оттенку поверхность. Такого же эффекта добивался в красочной поверхности Леонардо. Сфумато давало его цветам каменную твердость, но исключало неизбежные при мокром масляном методе столкновения тонов внутри одного цвета. Проблема «соприкосновения» оттенков, «слияния» теневой стороны изображаемого предмета и его светлой стороны исключительно важна для живописца. Как встретятся темный цвет и цвет светлый внутри одного и того же предмета? Как будет выглядеть граница? Скажем, щека персонажа в тени, а его лоб на свету – цвет лица меняет свою природу в тени или нет? Сиенцы решали этот вопрос просто – они писали свет теплой краской, а тень холодной, иногда даже зеленой, противопоставляя зелень розовому оттенку кожи (см., например, характерную технику сиенского мастера Липпо Мемми); венецианцы – прежде всего Паоло Веронезе (а вслед за ним его последователь Делакруа и, в свою очередь, последователи Делакруа) – считали, что тень контрастна по отношению к предмету. Так, Делакруа пишет в дневнике, что желтая карета отбрасывает лиловую тень. Рембрандт, малые голландцы и, особенно, караваджисты делают тень из того же цвета, что и освещенная часть предмета, но берут цвет тоном ниже, то есть темнее, то есть в коричневый цвет добавляют темно-коричневый. Это иногда кажется примитивно простым решением, тем не менее в лапидарности – логика караваджизма.
Техника сфумато вообще избегает теней, в картинах Леонардо теней нет. Сфумато – это абсолютный свет. Это прямая противоположность жесткой технике тенеброзо, резко делящей предмет на свет и тень. Караваджо или Ла Тур, приверженцы светотени (оставим в стороне Рембрандта, как автора более сложного высказывания), театрально выводят на свет самое значимое в картине и погружают в темноту незначимое; обозначают тенью дурное и светом добродетельное. Для техники сфумато такое наивное деление мира на положительное и отрицательное невозможно – сфумато принимает весь мир целиком, как принимает мир только Бог. Мы очень хорошо знаем, что именно считает интересным и значимым Ла Тур; но не знаем, что именно выделяет Леонардо. Он ценит все явленное в мире. Можно вообразить философическое суждение в стиле сфумато, которое не содержит «да» или «нет», но являет то, что в немецком языке передается словом jain – и да, и нет одновременно. Происходит такое «данет» вовсе не от релятивизма, как можно было бы вообразить, но оттого лишь, что поверхностное противопоставление субъективных предикатов для мудрости несущественно. Идет дождь или нет, жмет ботинок или свободен – ответы на эти вопросы по отношению к проблеме конечности бытия несущественны; и Леонардо пренебрегает контрастом света и тени.