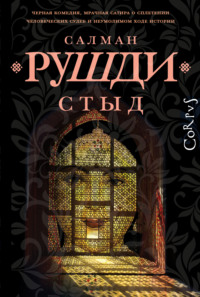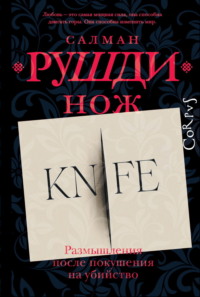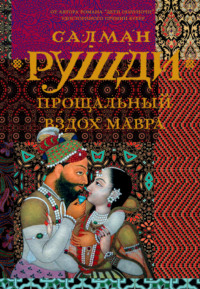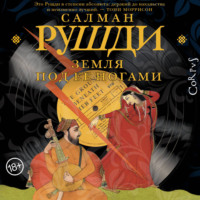Полная версия
Золотой дом
Любовь Апу к Америке была всеядной. Я напоминал себе, что он и Петя, конечно же, бывали здесь раньше, совсем юными, жили с родителями в бродвейском лофте во время университетских каникул и, скорее всего, слыхом не слыхали про дом бенами в нескольких кварталах оттуда, который их отец готовил для отдаленного в ту пору будущего. Вот уж, должно быть, Апу преуспевал сексуально в тогдашнем более молодом, яром городе! Неудивительно, что он счастлив был вернуться.
Вскоре после приезда он попросил меня рассказать о той ночи, когда Барак Обама был избран президентом. Ту ночь я проводил в мидтауновском спортбаре, где известный дуайен Верхнего Ист-Сайдского сообщества, республиканец, вел вечеринку вместе с явно даунтауновским демократом, кинорежиссером. В 11 вечера, когда подсчитали результаты голосования в Калифорнии, протолкнувшие Обаму за финишную черту, зал взорвался эмоциями, и я почувствовал: я, как и все тут, не мог прежде поверить, что то, что здесь происходило, действительно произойдет, хотя уже за два часа до того цифры явно предвещали победу Обамы. Опасения, как бы вновь не подтасовали выборы, вот что было у нас на уме, и когда большинство сделалось столь определенным, к восторгу примешивалось облегчение: теперь уж не украдут победу, заверял я себя, а по лицу текли слезы. Завершив рассказ, я посмотрел на Апу и увидел, что он тоже плачет.
После этого великого момента в спортбаре, продолжал я рассказывать, я полночи шлялся по улицам, вплоть до Рокфеллеровского центра и Юнион-сквер, наблюдал толпы молодых людей, таких же, как я, сиявших в уверенности, что – вероятно, впервые в истории – они собственным прямым действием изменили путь своей страны. Я упивался оптимизмом, изливавшимся на нас со всех сторон, и, как подобает желчному многознайке, уже сказал себе: “Разумеется, теперь он нас разочарует”. Тут нечем гордиться, признал я, но именно эти слова пришли на ум.
– Ты смолоду такой разочарованный, а я до сих пор мечтатель, – откликнулся Апу, все еще плача. – А ведь с моей семьей произошли ужасные вещи. А с тобой и твоими ничего страшного не было.
Благодаря моим родителям я к тому времени знал кое‑что об “ужасных вещах”, на которые намекал Апу, но меня удивили его слезы. Неужели этот человек, недавно перебравшийся в Америку, успел так вложиться в новую свою страну, что плачет из‑за результатов выборов? Или связь с этой страной установилась у него еще в юности и теперь он переживал возрождение давно утраченной любви? Сентиментальные слезы или крокодильи? Я отмахнулся от этого вопроса и подумал: когда сблизишься с ним и узнаешь получше, тогда и получишь ответ. Итак, я сделал еще один шаг к тому, чтобы превратиться в шпиона-любителя: к тому времени мне стало совершенно ясно, что за этими людьми стоит пошпионить. А про меня он высказался не совсем точно на тот момент, ведь я, в целом, тоже был захвачен первоначальным энтузиазмом обамовского президентства, но слова Апу оказались вещими, поскольку с годами отчуждение от системы нарастало во мне, и восемь лет спустя, когда люди моложе меня (по большей части юные, белые, с университетским образованием) выразили желание порвать эту систему в клочья и выбросить на помойку, я не примкнул к ним, потому что такого рода мощные жесты казались выражением той же дурной роскоши, которую провозвестники этой идеи якобы ненавидели, и когда эти жесты были воплощены в жизнь, они с неизбежностью привели к чему‑то худшему, чем то, что удалось ниспровергнуть. Но я понимал этих людей, разделял их отчуждение и гнев, потому что во многом и сам то же чувствовал, только из меня эти чувства сформировали иной тип, более осторожного градуалиста – в глазах нового, следующего за моим поколения это была довольно‑таки презренная точка (политического) спектра.
У Апу имелась мистическая жилка, любые духовные явления притягивали его, но, как я уже говорил, по большей части он скрывал от нас эту свою страсть, хотя никаких причин для скрытности не было, поскольку ньюйоркцы точно так же увлекались самыми причудливыми системами веры. Он отыскал в Гринпойнте ведьму, mae-de-santo[26], и на ее захламленной terreiro[27] поклонялся, следуя ее указаниям, ее любимцу Орише (одному из низших божеств) и, конечно же, Верховному творцу Олудумаре. Но он и ей изменял, хотя она наставляла его в колдовстве, – он с равным энтузиазмом ходил к каббалисту с Канал-стрит – к Иделю, адепту запретной Практической Каббалы, которая средствами белой магии стремится воздействовать на сферу божественного и внести в нее изменения, а также преобразить мир. Со страстью он входил – приглашенный друзьями, которых его страсть заражала – в мир буддистского иудаизма и медитировал вместе с растущим сообществом “бувреев”, классических композиторов, кинозвезд, йогов. Он практиковал майсорскую йогу, сделался мастером таро, изучал нумерологию и старинные книги, исследовавшие черные искусства и дававшие наставления, как строить пентакли и магические круги, внутри которых колдун-дилетант оставался в безопасности, пока твердил свои заклинания.
Скоро выяснилось также, что он – исключительно одаренный художник, чье техническое совершенство не уступало Дали (а использовалось лучше). Портретист эпохи концептуализма, он рисовал вокруг мужских и женских фигур, чаще всего обнаженных, или помещал внутрь них, или использовал как раму символы своих тайных штудий: цветы, глаза, мечи, чаши, солнца, звезды, пентаграммы, мужские и женские половые органы. Очень быстро он обзавелся студией поблизости от Юнион-сквер и выполнял яркие портреты “всего” Нью-Йорка, светских дам (по большей части дам, но и некоторых выдающихся молодых людей также), которые были счастливы раздеться для него и быть вписанными в изобильный мир высокодуховных смыслов, оказаться среди тюльпанов или плыть по райским и адским рекам, а затем вернуться в храм Мамоны, где они обитали. Великолепная техника помогла ему приобрести легкий и стремительный стиль, то есть обычно он начинал и завершал портрет в один и тот же день, чем еще более радовал торопливую толпу клиентов. Первая его самостоятельная выставка прошла в 2010 году под покровительством Фонда Брюса Хай Кволити во временно организованной галерее в Челси. Название он позаимствовал у Ницше: “Привилегия владеть собой”. Он становился знаменитым или, как сам говорил со своего рода комико-цинической скромностью, “знаменитым на двадцать кварталов”.
Америка изменила обоих, и Петю, и Апу – Америка, это раздвоенное существо, поляризовала их, как сама она поляризована, войны Америки, и внешние, и внутренние, сделались их войнами, но вначале, если Петя прибыл в Нью-Йорк сильно пьющим эрудитом, который боялся мира и ощущал жизнь как постоянное преодоление, то Апу явился трезвым романтическим художником и активно-сексуальным жителем столицы, флиртовавшим со всякими иллюзиями, но сохранявшим ясность зрения, и она позволяла ему, как свидетельствовали его портреты, видеть людей в их реальности: паника в глазах увядающей вдовы, невежество и уязвимость в позе чемпиона по боксу, оставшегося без перчаток, отвага балерины, чьи балетки заливает кровь, словно она, как сводная сестра Золушки, отрубила себе пальцы, пытаясь втиснуть стопу в стеклянную туфельку. Его портреты чуждались лести, они бывали очень жестокими. И все равно клиенты спешили к нему с крупными чеками в руках. Быть нарисованным Апу Голденом, быть прибитым к его холсту – это стало желанным и ценным. Вошло в моду. И в то же время за пределами своей студии он жадно носился по городу, обнимал его весь, словно юный Уитмен, и метро, и клубы, и электростанции, и тюрьмы, субкультуры, катастрофы, пылающие кометы, игроков, умирающие заводы, танцовщиц. Он был антиподом своего брата, ненасытный агорафил, его стали воспринимать как волшебное существо, проникшее в реальный мир из сказки, только никто не мог в точности решить, благие на нем чары или губительные.
Одевался он гораздо ярче старшего брата и часто менял свой облик. Он пользовался контактными линзами многих оттенков, иногда вставлял одновременно две разные, и до самого конца я не знал, каков естественный цвет его глаз. В одежде он сочетал моды всей нашей планеты. Повинуясь капризу, он отказывался от шали из пашмины и надевал арабскую дишдашу, африканский дашики, южноиндийскую вешти, яркие рубашки латиноамериканцев, а порой, впадая в Петину угрюмость, застегивался в шитый на заказ твидовый английский костюм с жилетом. Его видали на Шестой авеню в юбке-макси или в килте. Переменчивость Апу побуждала многих из нас задаваться вопросом о его ориентации, но, насколько мне известно, он оставался традиционно гетеросексуален, хотя, по правде говоря, он был своего рода гением компартментализации, он ухитрялся держать различные группы друзей в запечатанных отсеках, и люди из одного отсека даже не догадывались о существовании других, а потому он вполне мог вести еще одну тайную жизнь за ширмой гетеросексуальности, мог даже распутствовать втайне, однако мне это представляется маловероятным. Как мы убедимся, гендерная идентичность терзала вовсе не этого из братьев Голден. Конечно, в своих мистических изысканиях он свел немало странных, оккультных знакомств, которые не желал обсуждать. Но теперь, когда все известно, я начинаю реконструировать и ту жизнь, что он хранил в тайне.
Нас объединяло пристрастие к одним и тем же фильмам, вторую половину выходного дня мы охотно проводили вместе в “Центре IFC” или в “Фильм-форуме”, смотрели “Токийскую повесть”, или “Черного Орфея”, или “Скромное обаяние буржуазии”. Из-за любви к кино он и сократил свое имя в честь бессмертного Апу, сыгранного Сатьяджитом Раем. Отец, как он признавался мне, возражал: “Он говорил, что мы римляне, а не бенгальцы. Но пусть это его волнует, а не меня”.
Нерон Голден посмеивался над нашими походами в кино. Когда я приходил за Апу, Нерон частенько дожидался в маленьком дворике, выходившим в общий Сад, и тогда, обернувшись лицом к дому, он орал:
– Апулей! Пришла твоя подружка!
И напоследок замечание о его имени: он с восхищением отзывался об авторе, написавшем во II веке “Золотого осла”: “Этот парень унаследовал миллион сестерциев от отца, разбогатевшего в Алжире, и все‑таки написал шедевр”. А также об имени своего старшего брата и о своем: “Если Петя – сатир из “Сатирикона”, то я уж точно осел, черт побери!” За этим следовало пренебрежительное пожатие плеч. Но по ночам, основательно выпив, он переворачивал эту мысль, что казалось более уместным, поскольку из этой пары, по правде говоря, он был сатиричен и приапичен, а бедняга Петя зачастую представал длинноухим ослом.
В ночь, когда Голдены устроили вечеринку в Саду, Апу и Петя познакомились с женщиной из Сомали, и узы, удерживавшие этот клан, начали распадаться.
Ее привел на вечеринку хозяин галереи, который к тому времени стал также агентом Апу, хотя не эксклюзивным: склонный подмигивать повеса с серебряными волосами, звавшийся Фрэнки Соттовоче, который в юности приобрел скандальную известность, написав краской из баллончика три буквы NLF[28], каждая в 12 дюймов высотой, на одном из монументальных полотен Клода Моне с кувшинками в Музее современного искусства, таким образом выразив протест против войны во Вьетнаме и вторя акции неведомого вандала, который в том же 1974 году выцарапал двухфутовые буквы IRA[29] в правом нижнем углу “Поклонения волхвов” Петера Пауля Рубенса в Королевском колледже Кембриджа; ответственность за ту акцию Соттовоче, когда ему было охота похвастаться своим лучшим и более молодым леворадикальным Я, тоже пытался приписать себе. Картины без особого труда отреставрировали, ИРА проиграла свою войну, Вьетконг свою выиграл, а галерист сделал выдающуюся карьеру, обнаружил и успешно раскрутил, в числе прочих, скульптора Убу Туур, работавшую резаком по металлу.
“Уба” значит на сомали “цветок” или “бутон”, это имя часто пишут Ubax, причем x означает гуттуральный звук, с которым понапрасну борется англофонная глотка, это фрикативный согласный, рождающийся в гортани, без участия голоса. Вариант “Уба” – упрощенный, уступка не-сомалийской глоточной некомпетентности. Она была прекрасна, как женщины, живущие возле мыса Горн – такая же длинношеяя, с изящными руками. В долгий летний вечер она показалась Пете цветущим деревом, под сенью которого он мог бы обрести покой, излеченный до конца жизни ее прохладой. В какой‑то момент того вечера она согласилась спеть, и из этого щедрого рта вырвалась не завывающая сомалийская песнь, как он ожидал, а знаменитая ода Патти Смит самой любви, полная страсти и тьмы, с утешительными и предательскими повторами – “не могу обидеть тебя сегодня, не могу обидеть”… К той минуте, как пение стихло, Петя уже пропал. Он ринулся к Убе и застыл перед ней – растерянный, погибающий. На него нахлынула невыносимая, невыразимая любовь, и он пустился лепетать своей только что обнаруженной мечте о том и о сем, о поэзии и ядерной физике и о частной жизни кинозвезд, и она слушала серьезно и внимательно, принимая все его алогизмы – он срезал путь между одной мыслью и другой, – как будто они были вполне естественны, и Петя впервые в жизни почувствовал, что его понимают. Потом заговорила она, и он слушал, как под гипнозом, как мангуста перед коброй. Впоследствии он мог дословно повторить каждое слово, произнесенное ее идеальными устами.
Ее ранние работы, говорила она, вдохновлены примитивными художниками, с которыми она познакомилась на Гаити: они режут пополам канистры из‑под бензина, расплющивают обе половинки и с помощью самых простых инструментов, молотков и отверток, режут и колотят металл, пока не получат изощренное кружево из веток, листьев и птиц. Она долго обсуждала с Петей, как использует паяльную лампу, чтобы получить такое кружево из железа и стали, и показала ему на экране мобильника снимки своих скульптур: останки разбитых (разбомбленных?) машин и цистерн, превратившиеся в тончайшую филигрань; металл, просквоженный воздухом сложных форм, сам приобрел воздушность. Она говорила на языке мира искусств: война символов, желанные противопоставления, этот высокоабстрактный язык посвященного описывал ее поиск эмпатических образов, создающих баланс, а также столкновение контрастирующих идей и материалов, а еще она исследовала абсурдность противопоставляемых экстремальных позиций, например, “борец в балетной пачке”. Она блистательно держала речь, харизматично и торопливо, почти до неразборчивости, то и дело проводила рукой по волосам и даже хваталась за голову, но под конец у Пети вырвалось (аутизм вынуждал говорить правду):
– Простите, но я ничего не понимаю. О чем вы говорите?
Тут же он возненавидел себя. Что за идиот: у него в глотке застряло “Я вас люблю”, а он вместо поклонения обрушил на великолепную возлюбленную презрение! Теперь она возненавидит его, и поделом, вся его жизнь станет бессмысленной и прóклятой.
Она долго пристально смотрела на него, а потом разразилась целительным смехом.
– Это защитный механизм, – сказала она. – Боишься, что тебя не примут всерьез, если у тебя не будет мощной теории, особенно когда ты женщина. Вообще‑то мои работы вполне внятно говорят сами за себя. Я умею втиснуть красоту в ужас, застаю людей врасплох и заставляю думать. Приезжайте ко мне в Райнбек и посмотрите сами.
Теперь я знаю наверное – теперь, когда складываю воедино паззл Золотого дома и стараюсь восстановить в памяти точную последовательность событий той важной ночи, записывая их по мере того, как они вновь предстают передо мной, – что именно в тот час вечер начал оборачиваться для Пети катастрофой, ибо страстное желание принять приглашение Убы вступило в борьбу с демонами, внушавшими страх перед внешним миром. Петя сделал странный жест обеими руками, полубеспомощный, полугневный, и тут же разразился монологом, торопливым нагромождением бессвязных высказываний обо всем, что приходило в его измученную голову. Настроение его становилось все мрачнее, пока он распространялся на самые разные темы, добравшись уже и до бродвейских мюзиклов и своей нелюбви к большинству из них. Далее тот неловкий эпизод с пайтоном, исчезновение Пети в доме и его страдания на подоконнике. Любовь у Пети всегда граничила с отчаянием.
Все лето он печалился, запираясь в своей омытой синим светом комнате, играл в компьютерные игры и (как мы обнаружили впоследствии) создавал компьютерные игры немыслимой сложности и красоты и мечтал об этом дразнящем лике, скрытом защитной маской, о режущем металл пламени в ее руках, которым она создает из грубого железа изысканные фантазии. Она виделась ему супергероем, богиней с факелом, более всего на свете он хотел быть с ней, но страшился путешествия: Принц, слишком терзаемый тревогами, чтобы пуститься на поиски своей Золушки. Он не мог даже позвонить ей и признаться в своих чувствах. Он превратился в континент бесполезной болтовни, где таилась неприступная зона речевого паралича. Наконец Апу сжалился над ним и предложил помощь.
– Я возьму автомобиль с тонированными стеклами, – заявил он. – Мы обеспечим тебе доступ.
Впоследствии Апу клялся, что других целей у него не было, только перевести Петю через границы, поставленные страхом, и дать ему шанс с этой девушкой. Но, может быть, он говорил не всю правду.
Итак, Петя собрался с духом и позвонил, и Уба Туур пригласила братьев к себе на выходные и проявила достаточно сочувствия, сказав Пете: “Весь мой участок огорожен хорошим прочным забором, так что ты, наверное, мог бы счесть его внутренним пространством вроде своего Сада. Если тебе удастся договориться с самим собой, я смогу показать тебе скульптуры не только в мастерской, но и те, что стоят у меня во дворе”.
В свете догорающего дня, в грязном рабочем комбинезоне с лямками, волосы кое‑как запиханы под бейсбольную кепку “Янки” (козырьком назад), защитная маска, только что снятая, болтается на локте – такой, не прилагая ни малейших усилий, Уба действовала сногсшибательно.
– Пойдем, хочу тебе показать, – сказала она Пете и взяла его за руку, и повела по сумеречной стране, где повсюду были рассыпаны созданные ею гигантские сложные формы, словно кружевная броня богов и гигантов, словно обломки на поле битвы, перекованные легкими пальцами эльфов, и он следовал за ней, не жалуясь, веруя в существование изгороди, которую не мог разглядеть в угасающем свете и даже в лучах полной и яркой луны. Уба обошла кругом длинный приземистый фермерский дом, где она жила, провела Петю между домом и хлевом, где работала, и сказала:
– Смотри!
Там, на краю ее владений, где земля исчезала внезапно, катилась река, широкий серебристый Гудзон. У Пети перехватило дыхание. На долгий миг он даже забыл об ограде, не спрашивал, надежно ли он тут укрыт или же выставлен напоказ всему пугающему миру, а когда все же начал вопрос – “Если ли тут…” – и его рука задрожала, Уба крепче сжала его ладонь и ответила:
– Река – это стена. Здесь надежное убежище для нас всех.
И он принял ее слова и не боялся, стоял там и смотрел на воду, пока хозяйка не позвала обоих братьев в дом ужинать.
В теплом желтом свете ее кухни Петя снова сделался собой – болтуном, – он уплетал курицу с карри и манго, и сладость боролась на его нёбе с берберскими пряностями. Но пока он без умолку разливался о своем увлечении миром видеоигр, перемежая повествование о новинках с отрывками стихов о реке – это уж под влиянием мерцающей границы, – внимание Убы рассеивалось. Ночь затянулась, первоначальный план визита был позабыт, Уба Туур почувствовала, как нарастает в ней внезапность – измена.
– Как это ты до сих пор не женат? – спросила она Петю. – Такой мужчина – желанная добыча.
Но пока она это говорила, взгляд ее скользнул к Апу. Он сидел совершенно тихо, заверял меня впоследствии сам Апу, ничего не делал, но потом Петя обвинял его: ты бормотал, ты что‑то бормотал, ублюдок, ты напустил на нее черную магию, а сам Петя пытался ответить Убе, спотыкаясь на словах: давным-давно, да, кто‑то, но с тех пор ждал, ждал эмоционального императива, а она, говоря с ним, но глядя на его брата:
– Значит, теперь ты обрел эмоциональный императив? – спросила она, заигрывая, но глаз не отводя от Апу, а тот, как утверждал Петя, что‑то бормотал, хотя сам Апу в разговорах со мной наотрез отрицал бормотание.
– Я знаю, что ты сделал, крысеныш, – кричал ему потом Петя. – Наверное, ты и в еду ей что‑то подмешал, специи это скрыли, какой‑нибудь скверный порошок из куриных потрохов, который тебе приготовила гринпойнтская ведьма, и ты бормотал, что ты там шептал – приворот, приворот!
И Апу, с неподвижным лицом, каждым словом усугубляя зло:
– Куда ж это подевался любимый папочкин сыночек? У которого дважды два всегда четыре? Четыре плюс четыре всегда восемь? Я ничего не делал. Ничего.
– Ты спал с ней! – выл Петя.
– Ну да. Это да. Извини.
Может быть, как‑то иначе у них это прошло, меня же там не было. Вполне может быть, что Петя, прежде болтливый, за весь вечер не смог развязать свой язык, любовь сделала его немым, а живой и светский Апу завладел разговором и женщиной. Могло быть и так: Уба, которую все считали женщиной великодушной и любезной, обычно вовсе не склонной к безрассудству, на этот раз саму себя изумила, поддавшись внезапной похоти – к другому брату, своему собрату-художнику, восходящей звезде, женолюбу, чаровнику. Истоки желания скрыты от самих желающих, вожделеющих и вожделенных. “Мой дух лукаво соблазняет тело/ И плоть победу празднует свою” (Бард Эйвона, сонет 151)[30]. Так, не обладая полным знанием о почему и зачем, мы причиняем душевные раны тем, кого любим.
Темный дом. Скрип половиц. Движение. Нет надобности заново ставить банальную мелодраму собственно акта. Утром вина проступает на лицах обоих виновных, бросается в глаза, как заголовок передовицы. Массивный, тяжеловесный Петя, легкий бритоголовый Апу, женщина между ними – грозовой тучей. Нечего объяснять, говорит она. Так случилось. Лучше вам обоим уехать.
И Петя, запертый своим страхом перед миром в арендованной братом машине с тонированными стеклами, дрожит на заднем сиденье от унизительной, лишающей мужества ярости, три часа молчаливого ужаса, пока они едут обратно в город. В такие минуты мысли человека вполне могут обратиться к убийству.
8
Через 18 лет после рождения Апу старик позволил себе внебрачную связь и не соблюдал меры предосторожности, и дело закончилось беременностью, которую он решил не прерывать, поскольку с его точки зрения право решать всегда принадлежало только ему. Мать была бедная женщина, чье имя осталось неизвестным (секретарша? проститутка?), в обмен на оговоренную финансовую поддержку она отдала ребенка отцу, покинула город и на том исчезла из рассказа об этом мальчике. Итак, подобно богу Дионису, младший был дважды рожденным, сначала от матери, а потом вторично, в мир своего отца. Бог Дионис всегда был парией, богом воскресения и прибытия, “тем, кому предстоит прийти”. Он также был андрогином, “мужчиной-отчасти-женщиной”, и если младший отпрыск Нерона Голдена, когда началась игра в классические псевдонимы, выбрал себе такое имя, значит, он что‑то подозревал о себе еще до того, как узнал это, скажем так. В ту пору он бы обосновал свой образ, во‑первых, тем, что Дионис прошелся с приключениями по всей Индии, да и мифическая гора Ниса, место рождения бога, с большой вероятностью находилась на субконтиненте, а во‑вторых, это ведь божество чувственных наслаждений, не только сам Дионис, но и римский его двойник Вакх, бог вина, буйства, экстаза – все это, по словам Диониса Голдена, звучало весьма заманчиво. Тем не менее вскоре он объявил, что предпочитает не зваться божественным именем полностью, а обходиться скромным, почти анонимным прозвищем из одной буквы Д.
Не так‑то легко было ему интегрироваться в семью. С полубратьями отношения сразу же не задались. Все детство он чувствовал себя парией. Они прозвали его “Маугли” и дразнили, воя на луну. Его мать-волчица, говорили они, – шлюха из джунглей, а их мать-волчица – та самая, капитолийская (в ту пору они, видимо, считали себя Ромулом и Ремом, хотя впоследствии Апу в разговоре со мной это отрицал, вернее, намекал, что это образ в голове Д, а не в его собственной). Старшие уже освоили латынь и древнегреческий, пока Д только учился лепетать, и они прибегали к этим тайным языкам, чтобы не допустить младшего в свои разговоры. Впоследствии они и это отрицали, хотя признавали, что способ, каким он проник в семью, а также большая разница в возрасте, породили серьезные проблемы и недостаток взаимной верности и естественной привязанности. Теперь юноша, Д Голден в обществе братьев то лебезил, то впадал в ярость. Было очевидно, как ему необходимо любить и быть любимым, в нем приливной волной бились чувства, которые требовалось выплеснуть на кого‑то, и он с надеждой ждал, когда такая волна омоет и его, если же подобной страстной взаимности не случалось, он рвал и метал и уходил в себя. Ему исполнилось двадцать два, когда его семья переселилась в Золотой дом. Порой он вел себя не по годам разумно, а порой опускался до уровня четырехлетки.