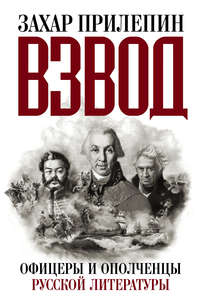Полная версия
Ботинки, полные горячей водкой (сборник)
Рубчик мог бы ещё после этого фокуса поймать коробок, но он не любит дешёвых эффектов.
– Ну что, лобан, созрел? – спросили пришедшие нашего продавца, с напряжённым интересом оглядывая нас и машину Рубчика.
Братик убрал ключи в карман. Рубчик достал спичку и стал её жевать.
– Оглох, что ли, лобан? – спросили белолобого, и тот раскрыл безвольный рот, не в силах издать и звука.
– А что за проблема, парни? – спросил братик миролюбиво.
– Это же не твоя проблема, – ответил ему один из пришедших, но согласия в их рядах не было, и одновременно в разговор вступил второй:
– Ты деньги привёз за тачку? Отдашь их нам. Лобан нам должен.
– Всем, что ли, поровну раздать? – спросил братик наивно.
– Нет, только мне, – ответил один из пятерых.
– Много тебе он должен?
– С-с… Семь штук, – помявшись, уточнили братику.
Отвечавший был рыж, кривоног и, по-видимому, глуп.
Рубчик тихонько тряс коробком и всё пытался заглянуть братику в лицо, чтобы понять: пора или ещё не пора. Братик приметил беспокойство товарища и неприметно кивнул: стой пока, не дёргайся.
– Давайте, парни, всё по справедляку разрешим, – сказал братик пришедшему забрать должок. – Я за лобана говорю, ты – за себя. Годится?
– Лобан сам умеет разговаривать, – не согласился кто-то.
– Но деньги-то пока у меня, – соврал братик. – И сейчас я имею дело с лобаном. Значит, я могу выслушать, что вы ему предъявите, и решить: отдать вам деньги или нет. Ты ведь не против, лобан, если я выслушаю парней?
Белолобый кивнул так сильно, что родинки на его лице едва не осыпались на траву.
– Рисуйте ситуацию, парни, мы слушаем внимательно, – заключил братик.
– Он мою козу задавил, – сразу выпалил рыжий в ответ.
– Реально, – ответил братик, голос его чуть дрогнул от близкой улыбки, но в последний момент он улыбку припрятал. – У тебя коза есть?
– У бабки. – Собеседник братика отвечал быстро, и эта поспешность сразу выдавала его слабость.
– Погибла коза? – спросил братик.
– Нет, нога сломалась.
– Понял, – сказал братик.
Я с трудом сдерживал смех.
– И нога козы стоит семь штук? – спросил братик.
– Семь штук, – повторил за ним рыжий всё так же поспешно.
Братик кивнул и помолчал.
– А теперь ты мне обоснуй, – попросил он. – Отчего это стоит семь штук?
– В смысле? – тряхнул грязным рыжим вихром его собеседник.
– Почему твоя предъява тянет на семь штук? Кто так решил? Ты так решил?
– Я… – уже медленнее отвечали братику.
– А почему семь? Почему не пять? Почему не девять тысяч? А? Почему не шесть тысяч триста сорок один рубль двадцать копеек?
Братик умел искренне раздражаться от человеческой глупости и смотреть при этом бешеными глазами.
– Ты не знаешь, что любую предъяву надо обосновать? – спрашивал он. – Тебе никто этого не говорил? А? Или ты не знаешь, что бывает за необоснованные предъявы?
– Почему я должен обосновать? – ответили братику, и тут братик наконец засмеялся.
– Мне нечего тебе сказать больше, – сказал он с дистиллированным пацанским презрением.
В рядах наших гостей произошло странное движение, будто каждый из них искал себе опору в соседе, а сосед тем временем сам чувствовал некую шаткость. Разговаривать им, видимо, расхотелось; время для начала драки показалось потерянным, и уходить молча было совсем западло.
– Лобан, мы потом к тебе зайдём, – как мог спас кто-то из них отступление.
И они ушли.
Братик сразу забыл о них, лишь спросил спустя минуту:
– А ты зачем козу задавил, лобан?
– Так у меня тормоза не работают… – Белолобый хотел было сопроводить рассказ подробностями, но братик его уже не слушал.
– Понял, Рубчик? – обратился он к товарищу. – Поедем медленно, двадцать кэмэ в час. А лучше – десять.
– Базара нет, – ответил Рубчик, прилаживая трос.
Братик уселся в «копейку», я прыгнул к нему на переднее сиденье, мы тронулись.
Белолобый провожал нас, стоя у порога, растроганный и благодарный. Мы посигналили ему напоследок. Он, кажется, хотел махнуть нам рукой, но рука сжимала в кармане деньги, и поэтому белолобый лишь дрогнул плечом.
Дорога к трассе шла вверх, и Рубчик бодро тянул нас по августовской пыли. Трос был натянут, как жила; с дороги шумно, но медленно разбегались гуси и тихо, но поспешно – куры.
Вырулив на трассу, Рубчик сразу вдарил по газам, и «копейка» загрохотала, рискуя осыпаться. Братик стукнул раздражённым кулаком по сигналу, чтобы дать товарищу понять его неправоту, но ещё семь минут назад подававшая голос машина на этот раз смолчала. Сигнал больше не работал.
– Рубчик! – заорал братик, мигая фарами «копейки», но его, естественно, никто не слышал и не видел.
Братик попытался левой рукой приоткрыть окно, но ручка крутилась вхолостую: стекло не опускалось.
Тем временем я, в ужасе глядя на провисающий трос и несущуюся перед нами машину, которую мы ежесекундно рисковали настигнуть, набирал номер Рубчика на мобиле. Пальцы прыгали и не попадали в кнопки. Спустя минуту всё-таки дозвонился. Братик выхватил у меня телефон и стремительно сообщил Рубчику ряд назревших возражений.
На взгорке Рубчик сбавил скорость, и мы поехали тише и медленнее. Братик всё ещё ругался, но тоже тише, тоже медленнее.
Мы закурили, братик ещё раз попытался опустить стекло, ничего не вышло, полез в пепельницу, но она выпала целиком, осыпав рычаг переключения скоростей пеплом и скрюченными бычками сигарет без фильтра.
Рубчик тем временем увидел некую, ясную лишь ему одному цель и чуть поддал газку и парку.
– Вот чудило, – сказал братик, и я снова начал набирать Рубчика. Уже справившись с набором и слушая медленные, далёкие гудки, я увидел, куда так стремился наш товарищ: на дороге стояли плечевые, всё те же самые. Одна – повернувшись к нам спиной. Вторая, напротив, лицом: отставив ножку, она с любопытством всматривалась в летящую к ней машину, за лобовухой которой расплывался в безмерно ласковой улыбке Рубчик.
– Рубчик, ты чего? – успел выдохнуть братик, когда его товарищ резко дал по тормозам возле плечевых.
Со смачным железным чмоком мы влепились в зад вставшей машины.
– Суки! – услышал я, выскакивая из «копейки», голос Рубчика. – Суки драные! Проститутки!
Рубчик уже вылетел на улицу и дикими глазами озирал результаты своей остановки.
– Какого ляда вы тут стоите, прошмандовки? – верещал он, и руки его суетливо искали предмет, которым можно было бы жестоко и с оттягом наказать двух беспутных девок, совративших его с прямого асфальтового пути.
Не найдя ни ремня, ни крепкого дрына, раскинув злые ладони в стороны, Рубчик кинулся к девкам, но те оказались понятливы и быстры. Пробежав за ними метров десять, Рубчик махнул рукой и вернулся к машинам.
Братик дал задний ход, снова вышел из «копейки», и минуту мы стояли опечаленные, перекуривая, глядя на результаты первой части поездки.
Отдышавшись, отругавшись и отплевавшись, мы снова начали усаживаться в машины.
– Лучше бы мы бабки отдали этим коблам и уехали без тачки, – сказал Рубчик. – Дешевле бы обошлось.
Он, впрочем, говорил это без злобы и почти уже улыбаясь.
Метрах в ста от нас плечевых подсадили в кабину фуры, и, когда она, набирая скорость, дымила мимо, Рубчик, высунувшись наглой башкой в окно, успел пожелать шалавам, чтоб их сделали вот так и вот эдак, и ещё через эдак поперек, а после залили в местах потребления соляркой и тосолом.
Водитель фуры тормознул, показалась чумазая рожа и спросила: о чём шум?
– Езжай давай, – сказал ему Рубчик и сам тронулся. И мы за ним, куда деваться.
Дорога была пуста, только изредка кто-то пролетал по встречке.
До города оставалось недалеко, но теперь мы береглись и еле двигались. Если что – братик тормозил, переключая скорость, да и трос позволял маневрировать, когда мы принимали то влево от побитого зада машины Рубчика, то, значит, вправо.
Завидев в белой дымке родной город, Рубчик, верно, опять забылся, да и прискучило ему катить медленно: подобной езды он не позволял себе ранее никогда. Колёса завертелись, пейзаж заторопился мимо, «копейка» загрохотала костями, пепельница задребезжала.
– Давай звони ему, – сказал братик, иногда рефлекторно выдавливая педаль тормоза, никак не отзывавшуюся на давление.
На очередном вираже раскрылся чёрный зев бардачка, оттуда посыпались обильные гаечные ключи, изоленты, наждачная бумага… От перепуга я выронил телефон.
Нехорошо ругаясь, мы подъезжали к перекрёстку: братик, вцепившийся в руль, и я, судорожно ковырявшийся в барахле на половичке в поисках телефона, – когда нас обогнала новая «девятка» и неожиданно встала впереди, пропуская грузовик, мчавший по главной нам наперерез. Рубчик, взвизгнув тормозами, резко вырулил вправо, ну и братик тоже, избегая повторного удара в тыл товарищу, принял ещё правее, на обочину, плавно переходящую в овраг.
– Ру-у-убчик! – успел весело крикнуть братик в ту секунду, когда машины наши поравнялись. Рубчик смотрел на нас, улыбаясь, а мы смотрели на Рубчика восхищённо.
Свободный трос кончился, наша «копейка» рванула машину Рубчика на себя, и дальше мы ничего не видели, сделав по дороге в овраг два, с хряком, рыком и взвизгом, переворота.
Перед глазами мелькнули кусты, небо, кусты, небо, трава, много зелёного, жёлтого, розового цвета.
С жутким дребезгом «копейка» взгромоздилась на крышу, и секундой позже в двух метрах от нас на обочину пала иномарка Рубчика.
Какое-то время вниз головами мы висели с братиком молча, словно в задумчивости, разглядывая узоры треснувшего лобовика. Движок работал, колёса крутились.
– Движок работает, – сказал брат со спокойным удивлением и повернул ключ зажигания. Машина заглохла.
– Ты цел? – спросил он.
Лицо моё было в пепле, но я был цел.
Мы отцепили ремни и, пиная двери, стали выбираться. Двери раскрылись, мы выползли на августовскую травку.
Поднялись, потрогали руки и ноги.
– У тебя кровь, – сказал я, указывая братику на лицо.
– Гаечный ключ зубами поймал, – отмахнулся он, сплёвывая, и позвал: – Рубчик!
– Подержите тачку! – раздался голос Рубчика из машины.
Мы схватились кто за что – за колёса, за подвеску, за бампер. Со второй попытки Рубчик открыл и распахнул дверь и вот уже явился к нам, лёгкий и целый.
Прибежал водитель «девятки»:
– Вы живые, мужики?
Мы всё ещё держали машину Рубчика, словно она могла взмахнуть крыльями и улететь. Впрочем, почти так оно и было.
– Гляньте, пацаны, – сказал Рубчик.
Мы глянули: машина его стояла на самом краю обрыва, и, если бы Рубчик осыпался туда, он бы уже не вылез на белый свет. В том числе и потому, что сверху на него рухнули мы с братиком.
– Дай сигаретку, – произнёс братик сипло.
– В машине остались, – сказал Рубчик привычно, будто мельком, как отвечал, быть может, тысячу раз до этого. И тут мы захохотали.
– В ма… ши… не!.. – хохотал и кашлял братик. – В ма-ши-не! В машине, Рубчик? Так возьми…
Рубчик сам присел от смеха и стучал кулаком по земле.
Мужик из «девятки» отдал нам пачку сигарет и, сказав напоследок: «Весёлые вы пацаны!» – ушёл к своей машине, вскарабкавшись по склону.
Мы тоже двинулись за ним, посмотреть и разобраться, как кувыркались наши машины, но ничего толком не было понятно. На улице уже вечерело, темнота подступала настырно и незаметно.
Что твои плечевые, мы постояли на трассе и приняли решение оставить «копейку» тут, а машину Рубчика извлечь, для чего необходимо тормознуть какой-нибудь грузовичок с приветливым и отзывчивым на людскую беду водилой.
В меру мощная машина вскоре пришла.
– Чего, сынки? – спросил мужик, выйдя к нам на свежий воздух из своего грузовичка, гружённого кирпичом, и мы сразу поняли – этот поможет.
– Вон, отец, скувыркнулись.
Не сговариваясь, мы сразу стали называть его отцом. Мужик к этому располагал. К тому же все мы давно были безотцовщиной.
«Отец» спустился вниз, в овраг, не уставая жалеть нас и подбадривать.
– Ах вы, дуралеи, – говорил он. – Как же вас теперь доставать отседова…
Мы ещё не успели дойти до затаившейся на краю машины Рубчика, как за нашими спинами на дороге раздался грохот такой силы, словно с неба об асфальт пластом упал старый, очень железный самолёт. Мы, трое молодых, сразу дали слабину в коленках и присели как зашуганные. Спаситель наш, не дрогнув, оглядел нас, застывших на корточках, и медленно повернул взор к трассе.
В грузовик правой стороной въехала «газель». Водителя «газели» не было видно. Но то, что представляла собой правая сторона его машины, не давало надежды увидеть его при жизни. Кирпич, который был в кузове грузовичка, от дикого удара осыпался на «газель», частично украсив крышу, частично заполнив салон.
Мы бросились к дороге… Обежали «газель»… Водитель сидел на асфальте с голыми ногами. Белые пальцы шевелились, словно узнавая друг друга заново.
Подняв водилу, наперебой расспрашивая, как он себя чувствует, не получая ни одного ответа, мы всё-таки разглядели, что у него нет и самой малой царапины; разве что при встрече с грузовиком он вылетел из тапочек и на улицу вышел уже голоногим.
– Как же ты мой грузовик не заметил, милок? – горился «отец». – Заснул, что ли? Ой ты, дурило…
Раскрыв дверь «газели», мы увидели, что кузов грузовика теперь располагается непосредственно в салоне, рядом с сиденьем водителя.
– Если б у тебя был пассажир, он принял бы грузовик на грудь, – сказал Рубчик водителю, который ещё ничего не соображал и только переступал по асфальту, как большая птица.
– И сидел бы сейчас этот пассажир в самом непотребном виде, с кладкой белого кирпича вместо головы, – заключил братик.
Тут, свистя тормозами, едва не передавив всех нас, подлетела ещё одна «газель», и оттуда почти выпал человек с юга; у него было жалобное, готовое разрыдаться лицо и непомерный, стремительный живот, который он без усилия переносил с места на место, обегая нас.
– Ты жив? – спросил он водителя, но тот ещё не вспомнил, как говорить.
Мне показалось – задавая свой вопрос, человек с юга имел в виду совсем другое, что можно сформулировать, например, как «зачем же ты жив до сих пор, падла?!».
– Что это? – спросил он нас шёпотом, жестом раскинутых рук показывая на дорогу, машины, кирпич. Но ему снова никто не ответил.
– Я купил эти машины, – указал он на свои «газели» большим согнутым пальцем. – Я гнал их домой, – сказал он и опустил руки. Живот его дрожал, как при плаче.
– Ничего, – сказал тот, кого мы называли отцом. – Все живы, милки. Радуйтесь, милки.
– А мы радуемся, отец, – сказал братик просто и прикурил сигаретку.
Человек с юга посмотрел на нас, сделал неясное движение энергичными щеками, сходил к машине и вернулся с красивыми ботинками. Присел и поставил их у ног своего водителя.
Тот обулся и сказал наконец первое хриплое тёплое слово:
– Спаси… бо…
Славчук
Славчук должен был родиться негром. Я часто читаю ночью при включённом, но без звука, телевизоре. В телевизоре, неслышные мне, поют, раскрывая яркие рты, молодые женщины. И наблюдая их в тишине, я особенно остро понимаю, что не только мне скучны их голоса, но и сами они преследуют какие-то иные цели: едва ли им хочется петь. Просто пение – наиболее удобный способ для того, чтобы демонстрировать движение губ и все мышцы, способные сокращаться и подрагивать. Потом, в следующем ролике, появляются негры, эти блестящие, покрытые крепким мясом звери, с белыми зубами или с белыми и одним, впереди, золотым, на котором, непонятный мне, едва различим рисунок. Негры читают рэп – я слышал, что многие из них бандиты, и поэтому, не сдержавшись, включаю в телевизоре звук – послушать, как они произносят свои, непонятные мне, слова. Русские бандиты не читают рэп. Наверное, у них нет чувства ритма.
Однако же Славчук был родственной этим мрачным чернокожим певцам породы: бугры мышц, сильные челюсти, чёткие ноздри, почти ласковая улыбка, чуть вывернутые губы, зуб из странного металла, девушки вокруг, которые наконец-то не поют, но лишь прикасаются то одной, то другой своей стороной к мужчине, исполняя главное своё предназначение.
Я вовсе не хочу сказать, что Славчук был куда более уместен в Гарлеме, чем в тех краях, где ему довелось родиться и умереть. Он вполне себе смотрелся и здесь, среди берёзок и без мулаток. Просто если б его воскресили, чтоб поместить средь чернокожей братвы, он наверняка стал бы там своим парнем.
Это был маленький полусельский городок на среднерусской равнине, тихо переживавший исчезновение советской власти. Дом моего деда стоял на одном порядке, родители Славчука жили на соседнем. Нас разделяли огороды: ровные грядки картофеля, всегда выдающие пышным сорняком лентяя, вдовца или пьяницу.
На картофельных листьях висели колорадские жуки. Когда я давил их пальцами, на руках оставался приторный запах и жёлтый цвет колорадской смерти.
Каждое утро начиналось со Славчука. Раньше него вставали только бабы, державшие коров. Но баб не было видно: отогнав своих бурёнок на пастбище, они возились во дворах, пока мужики досыпали.
А Славчук уже сидел на крыше, голый по пояс, перекладывал толь, вгонял длинные гвозди в реи. Потом он, невысокий и удивительно ладный, под прохладным, пару часов как вставшим солнцем полол огород, и это ему шло. Хотелось самому так же непринуждённо работать мотыгой.
Огород Славчука всегда смотрелся как натюрморт.
Странным казалось, откуда он взялся такой у своих родителей.
Мать Славчука носила стёртое лицо, ни одна черта которого не могла запомниться и на минуту.
Отец – невзрачный, сутулый и маленький мужичок с залысинами и плохой речью. Неумелый и суетливый.
Как у них родился этот белый, грациозно передвигающийся, спокойный и сильный негр, я не знаю.
Однажды дед мой, проезжавший в поле на мотоцикле мимо отца Славчука, не выдержал и остановился. Отец Славчука косил.
– Ну что ты делаешь?! Дай-ка сюда косу! – дед забрал у него косу и сделал несколько взмахов. – Вот так надо. Не рви на себя. Коса мягко должна идти.
Отец Славчука был со всем согласен и что-то путано, почти неслышно отвечал, ежесекундно пытаясь отобрать косу у деда, что, впрочем, не помешало тому сделать ровный рядок с краю косо выстриженной и неряшливой полянки, на которой словно бы отсыпалась недавно рота солдат.
– Криворукий… – выругался дед, усевшись на мотоцикл и резко взяв с места. – А сын его – вор. Завод растаскивают с дружками…
Ещё у Славчука были две старшие сестры, и в ту пору они как раз вышли замуж. Бабушка моя за ужином как-то обронила мельком, что оба мужа непутёвые, а девки между тем уже разродились, причём одна из них – двойней.
– Теперь Славчук кормит и себя, и сестёр, – сказала бабушка.
– Хребтом своим он, что ли, зарабатывает? – выругался дед и пошёл клясть новые власти, которые даже у меня, подростка тринадцати лет, вызывали чувство жалости и вялой неприязни.
Когда вечерело, Славчук шёл за коровой на луг. Сидя на берегу с удочкой, я видел, как он пытается научиться крутить пальцами трость – трость ему заменяла крепкая, ещё маслянистая, со спущенной корой ветка.
Первые дни у него не очень получалось. Но не прошло и недели – и его с этой тростью можно было бы выпускать на арену цирка. Чтоб он там прошёлся, крутя.
До сих пор я, взрослый мужик, найдя ровную палку, безуспешно пытаюсь повертеть её и представляю себя Славчуком.
Он был старше меня, наверное, на шесть лет. Признаться, я ни разу с ним не разговаривал подолгу, не очень помню его речь, мимику, осталось только ощущение, которое сразу оживает, когда эти негры начитывают свою чёрную печаль под агрессивную музыку.
Однажды мы стояли у реки – деревенская юная пацанва и мой ближний, через забор, сосед Жорка Жила, ровесник Славчука. Происходили привычные грубые, с липким матом беседы, и пацаны, ошалев от летнего, жаркого клокотания внутри, начали, к моему удивлению, измерять длину первых волос в паху. У кого-то из нас был один, но странно длинный волос. Обладатель этой редкости, левой рукой оттянув резинку трико, а правой струнно натянув свой волос, обходил дружков, неся на лице выражение идеально тупого торжества.
Но тут появился Славчук, и все как-то стушевались, перестали заглядывать себе в штаны.
Он вроде бы ничего не заметил, поздоровался со всеми за руку, перекинулся с Жилой парой слов и ушёл – в руке тросточка, но крутить её стал, только когда почти исчез из виду: видимо, вовсе не считал нужным красоваться перед нами.
– Нравится Славчук? – ехидно спросил у меня Жорка Жила.
Я не нашёлся что ответить.
– Он всем нравится, – сказал Жорка, как мне показалось, даже с некоторой грустью. – За руку здоровается, – добавил Жорка неопределённо, хотя ничего удивительного в этом не было: ну за руку, ну и что? И сам Жорка так здоровался: протягивая свою быструю, костистую и холодную, но влажную в линиях ладони руку – и сразу её забирая.
Все некоторое время смотрели на Жилу молча, а тот вдруг, без причины, разозлился и кому-то дал напоследок оплеуху. Может, даже мне. Хотя вряд ли.
Воскресным вечером одна из моих сестёр пошла в клуб, и, поскучав немного, я отправился встречать её. Циничный дед мой засмеялся, узнав, куда я иду:
– На кой ты ей там нужен? Пущай одна погуляет, ей там титьки намнут. Мешаться только будешь. На рыбалку-то пойдёшь с дедом иль нет?
Иногда он говорил о себе в третьем лице.
– Попозже приду! – сказал я громко. Дед был несколько раз контужен на войне и различал только прямую и точную речь, без интонаций.
– Ну приходи, – ответил он спокойно. – Сальца зажарим.
Мне было совсем немного лет, и оттого пока казалось диким, что моей девятнадцатилетней сестре кто-то будет мять грудь. Зачем это нужно, в конце концов?
Эта сестра моя носила редкое для чернозёмных краев имя Лиля, строгое лицо и длинное узкое платье, которое она, не стесняясь меня, с трудом натягивала на высокие бёдра, стоя перед зеркалом.
Девушки нашего селения очень весело смотрелись вечерами, когда они, наряженные, пробирались на каблуках по привычной грязи. Но Лиле эти странные передвижения даже шли: она была похожа на молодую актрису, отставшую от поезда.
Когда Лиля смеялась, мужчины и молодые люди смотрели на неё молча и чуть приоткрыв рты, словно пытаясь повторить рисунок её улыбки. Мне иногда казалось, что смех её звучит как издевательство.
Дома она тоже вела себя строго: со странным, но ловким остервенением чистила картошку, мыла полы, стирала. Потом, наклонив голову, разглядывала свои чуть вспухшие руки с тонкими, но сильными пальцами и, спрятавшись за ригу, куда складывались запасы сена, курила крепкие сигареты.
– Сожги мне ригу, сожги, – ругался дед.
Некоторое время я бродил у клуба, где раздавалась громкая музыка, – и если открывались двери, откуда выбегали хохочущие, дурно двигающиеся девушки или пьяный молодняк, музыки становилось ещё больше.
На улице Лили не было, и я прошёл в зал искать её там. Билетёр куда-то убрёл, и мне улыбнулось не платить за вход.
Взрослые парни стояли вдоль стен, разглядывая танцующих девушек. Несколько молодых пацанов тоже танцевали в центре зала, один из них держал на вытянутой вверх руке бутылку спиртного.
Несколько раз я пересёк площадку, разыскивая Лилю, пока меня не схватили за рукав.
– Ты откуда? – спросил меня пьяный тип. Он был выше меня на полторы головы и, судя по всему, старше на несколько лет.
Я назвал свою улицу.
– А твои пацаны где? – спросили меня.
– Я один, – ответил я.
Спросивший ушёл куда-то ненадолго и спустя минуту вновь нашёл меня в зале. Я всё ещё как дурак бродил вдоль и наискосок.
– Выйдем, – предложил мне он, криво улыбаясь и глядя сверху вниз.
У входа в клуб стоял Славчук, он приветливо мне кивнул, я поймал его взгляд, но не нашёлся что сказать.
Мы прошли за клуб, где пахло мочой и было темно: сломанный свет фонаря едва доползал туда, огибая угол здания. Нас ждали ещё три человека, и они сразу подошли ко мне, все трое.
Меня толкнули в грудь.
– Ты что, хуй? – лаконично спросили меня, с ударением на пьяно выдохнутое «что». Вопрос, видимо, означал, и что я тут делаю, и откуда я вообще взялся на свете.
– Чего, пацаны, случилось у вас? – поинтересовался Славчук, тихо выбредший откуда-то. Он подходил к нам, аккуратно ступая – так, чтобы не наступить в потёки мочи.
Все четверо запечатали суровые рты и молчали треть минуты, пока наконец тот, кто привёл меня, не ответил, ткнув в меня лживым пальцем:
– Он меня толкнул.
– Тебя толкнул или всех четверых сразу? – ласково усмехнулся Славчук, и здесь я впервые заметил его зуб со странным рисунком.
– А чего ты сюда пришёл? – немного сдавленно спросил Славчука приведший меня.