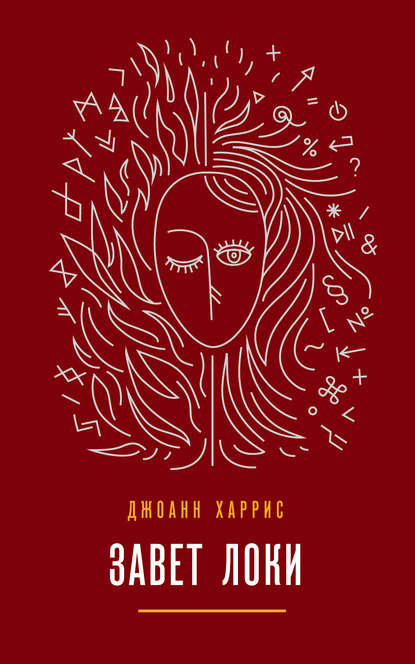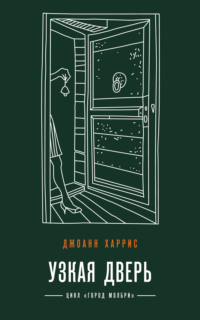Полная версия
Пять четвертинок апельсина
Сперва они повели себя очень умно. Они ничего у меня не просили. Лишь выразили беспокойство по поводу того, что я живу совершенно одна, и преподнесли мне подарки: кухонный комбайн, страшно удивившись, что у меня до сих пор его нет, зимнее пальто и радиоприемник. И предложили съездить куда-нибудь вместе. А однажды даже пригласили меня в свой ресторан, больше похожий на просторный сарай, со столиками из искусственного мрамора, накрытыми клетчатыми бумажными скатерками, с неоновыми огнями, с сушеной морской звездой и ярко раскрашенными пластмассовыми крабами, «запутавшимися» в рыбацких сетях, развешанных по стенам. Я что-то такое буркнула насчет подобного интерьера, хотя и несколько неуверенно, и Лора тут же принялась объяснять мне, ласково похлопывая меня по руке:
– А это, тетушка, как раз и называется «китч». Вряд ли вам подобные вещи могут понравиться, но в Париже, поверьте, это сейчас очень модно.
И она улыбнулась мне, продемонстрировав все свои зубы. Зубы у нее были очень белые и очень крупные, а волосы – цвета только что смолотого перца. Они с Янником то и дело прямо на людях обнимались и целовались, и меня, должна сказать, это здорово смущало. А еда у них в ресторане была… современная, наверно. Тут я не судья. Какой-то салат с довольно убогой заправкой: много разных овощей, порезанных в виде мелких цветочков. Может, немного цикория там и было, но в целом – ничего особенного, в основном просто старые салат-латук, редиска и морковь причудливых форм. Затем подали кусок трески – неплохой, должна признать, но очень маленький – с белым винным соусом, луком-шалотом и листочком мяты, что, по-моему, было совершенно лишним. На десерт предложили тонюсенький ломтик грушевого тортика, зачем-то политый шоколадным соусом и посыпанный сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Просматривая меню, я обратила внимание на то, сколько там всякой самодовольной чуши, например «нугатин из разных сортов печенья на соблазнительной основе из тончайшего теста, украшенный шоколадной глазурью и пикантной подливой из абрикосов». Я-то думала, что мне принесут обычный пирог-флорентин, но этот «нугатин» оказался не больше пятифранковой монетки. А ведь так все было расписано, будто это угощение им сам Моисей с горы принес! А уж цена! В пять раз дороже самого дорогого из моих кушаний, и это еще без вина. Я-то, конечно, ни за что не платила. Однако мне сразу закралась в голову мысль о том, что за столь внезапное внимание со стороны Лоры и Янника мне еще придется расплачиваться.
Так оно и вышло.
Через два месяца поступило первое предложение. Я получу тысячу франков, если передам им свой рецепт paella antillaise и позволю вставить это блюдо в меню их ресторана. «Паэлья по-антильски от тетушки Фрамбуазы», упомянутая Жюлем Лемаршаном в июльском номере «Hôte et Cuisine»[19] за 1991 год. Сперва я решила, что это шутка. «Нежнейшая смесь свежих даров моря, вкус которых оттеняют зеленые бананы, ананас, мускатель и рис, слегка приправленный шафраном». Прочитав это, я рассмеялась. Да что у них, собственных рецептов не хватает?
– Не смейтесь, тетушка, – произнес Янник почти сердито; его блестящие черные глаза были совсем близко и смотрели на меня в упор. – Мы с Лорой действительно были бы вам очень благодарны.
И он широко улыбнулся мне.
– Вы, тетушка, не смущайтесь. – Лучше б они так меня не называли! Лора обняла меня за плечи холодной голой рукой. – Уж я позабочусь, чтобы все знали: это ваш рецепт.
Они так просили, что я не выдержала. Собственно, я не против, чтоб и другие готовили по моим рецептам; в конце концов, с жителями Ле-Лавёз я уже много чем поделилась. Я бы и Лоре с Янником могла рассказать, как готовить эту «паэлью по-антильски», и подарить еще сколько угодно других рецептов, но при условии, что никаких «тетушек Фрамбуаз» они в меню упоминать не будут. Построив себе спасительную норку, я вовсе не имела намерения привлекать к ней чье-то ненужное внимание.
Они моментально согласились со всеми моими требованиями и почти даже не спорили; но через три недели в «Hôte et Cuisine» был опубликован рецепт «паэльи по-антильски от тетушки Фрамбуазы» в сопровождении восторженной статьи Лоры Дессанж. «Надеюсь, что вскоре смогу поведать вам и еще кое-какие чудесные рецепты сельской кухни, которыми обещала с нами поделиться тетушка Фрамбуаза, – писала она. – А пока вы можете попробовать наши блюда в "Деликатесах Дессанж", улица Ромарен, Анже».
Полагаю, им и в голову не пришло, что я могу эту статью прочесть. А может, просто решили, что я совсем не то имела в виду, когда велела им не упоминать о «тетушке Фрамбуазе», и, когда я ткнула им в нос эту статью, принялись извиняться, как дети, пойманные на очаровательной шалости. Моя паэлья уже пользовалась неслыханной популярностью, и теперь они мечтали включить в свое меню целый раздел кушаний «от тетушки Фрамбуазы», например мои couscous à la provençale, cassoulet trois haricots[20] и, разумеется, «знаменитые блинчики тетушки Фрамбуазы».
– Понимаете, тетушка, – объяснял мне Янник с победоносной улыбкой, – самое главное, вам даже делать ничего не придется. Просто будьте собой, и все. Такой вот, естественной.
– А я могла бы вести колонку в нашем журнале, – прибавила Лора. – «Советы тетушки Фрамбуазы» или что-то в этом роде. Конечно же, вам, тетушка, ничего писать не потребуется. Я все сделаю сама.
И она лучезарно мне улыбнулась, точно запуганному ребенку, нуждавшемуся в поддержке.
Они снова притащили с собой Кассиса, который тоже лучезарно улыбался, хотя и был несколько смущен; мне показалось, что ему все-таки не по себе.
– Но ведь мы это уже обсуждали. – Я очень старалась держаться спокойно и твердо, чтобы голос ни в коем случае не дрогнул. – По-моему, я вполне ясно дала понять, что не желаю ни в чем таком участвовать. И никакой вашей помощи мне не надо.
Кассис был ошеломлен.
– Для моего сына это такая блестящая возможность, – промямлил он умоляюще. – Ты только представь себе, как полезна ему подобная публикация в журнале!
Янник кашлянул и поспешно внес свои поправки:
– Папа просто имеет в виду, что это выгодно всем нам. Возможности тут поистине безграничны. Особенно если дело пойдет. Можно, например, выставить на рынок конфитюры и варенье тетушки Фрамбуазы, печенье тетушки Фрамбуазы. И конечно, вы, тетушка, получали бы с этого изрядный процент.
Покачав головой, я сказала несколько громче, чем прежде:
– Ты меня, кажется, плохо слушал или не слушал совсем. Повторяю: я не хочу никаких публикаций. Не хочу никаких процентов. Мне все это совершенно не нужно.
Янник и Лора переглянулись.
– И если вы думаете, а по-моему, вы именно так и думаете, – совсем уж резким тоном продолжала я, – что это можно сделать и без моего согласия, в конце концов, вам всего-то и нужны имя да фотография, то учтите: если я еще раз услышу, что в вашем или в любом другом журнале появился какой-нибудь «рецепт тетушки Фрамбуазы», я в тот же день позвоню издателю журнала и продам ему права на все кулинарные рецепты, какие только у меня есть. Да ладно, черт побери, я отдам их бесплатно!
Я задыхалась, сердце молотом стучало в груди, меня переполняли одновременно бешеный гнев и смертельный ужас. Нет уж, я никому не позволю шутки со мной шутить! И посадить в тюрьму дочь Мирабель Дартижан никому не удастся! Лора с Янником, видно, поняли, что я серьезно. Это сразу стало ясно по их физиономиям.
Они, правда, пытались возражать, хотя и довольно беспомощно:
– Но тетушка…
– И прекратите называть меня тетушкой!
– Дайте-ка я поговорю с ней, – вмешался Кассис, с трудом поднявшись с кресла.
Я обратила внимание на то, как сильно он с годами одряхлел, съежился, как-то весь осел, точно неудачное суфле. Судя по всему, самое незначительное усилие заставляло его морщиться от боли.
– Пойдем лучше в сад, Буаз, – предложил он.
Усевшись на ствол упавшего дерева возле заброшенного колодца, я испытала странное чувство раздвоенности: казалось, Кассису достаточно снять эту маску толстого старика, и он снова станет прежним: живым, беспечно смелым и немного диковатым.
– Почему ты так поступаешь, Буаз? – спросил он. – Это из-за меня?
Я медленно покачала головой.
– К тебе это не имеет ни малейшего отношения. И к Яннику тоже. – Я мотнула подбородком в сторону дома. – Ты хоть заметил, как я восстановила наш старый дом?
Он пожал плечами.
– Если честно, никогда не мог понять, зачем он тебе. Я бы тут ничего и пальцем не тронул. Просто мороз по коже, стоит подумать, что ты снова тут поселилась. – И он как-то странно на меня посмотрел – понимающе, остро. А потом с улыбкой произнес: – Впрочем, это как раз в твоем духе, Буаз, – поселиться в ее доме. Ты ведь всегда была ее любимицей. А теперь ты еще и так на нее похожа.
Тоже пожав плечами, я спокойно предупредила его:
– Ладно, ты мне зубы не заговаривай.
– Вот-вот, ты и ведешь себя теперь совсем как она. – И в его голосе послышалась сложная смесь любви, вины и ненависти. – Буаз…
Я посмотрела на него.
– Но ведь кто-то же должен ее помнить! Я никогда не сомневалась, что этим «кто-то» точно будешь не ты.
Он лишь беспомощно отмахнулся.
– Так ведь здесь-то, в Ле-Лавёз…
– Здесь никто и не догадывается, кто я такая, – прервала я брата. – И никто меня с теми событиями не связывает. – Я вдруг усмехнулась. – Знаешь, Кассис, для большинства людей все старухи на одно лицо.
Кассис кивнул и уточнил:
– И ты думаешь, «тетушка Фрамбуаза» все испортит?
– Я знаю это. Знаю, что так и будет.
Помолчав, он как ни в чем не бывало заметил:
– Что-что, а врать ты всегда здорово умела. Ты и эту особенность от нее унаследовала. Умение врать и прятаться. Вот я, например, весь нараспашку.
И он широко раскинул руки, словно желая это продемонстрировать.
– С чем тебя и поздравляю, – равнодушно откликнулась я: он ведь и сам в это верил.
– И готовить ты тоже отлично умеешь, это я признаю. – Он посмотрел через мое плечо на деревья в нашем старом саду; ветви сгибались под тяжестью созревших плодов. – Матери это было бы приятно. Приятно узнать, что ты продолжила ее дело. Господи, как же все-таки ты на нее похожа, – медленно повторил он; в его голосе звучало не одобрение, а констатация факта, к которой примешивались легкая неприязнь, страх и одновременно восхищение.
– Она оставила мне свой дневник, – вдруг сообщила я. – Тот самый, с кулинарными рецептами. Свой альбом.
Его глаза расширились от изумления.
– Вот как? Ну что ж, ты была ее любимицей…
– Заладил одно и то же, – нетерпеливо прервала я его. – Если у матери и была любимица, так это Ренетт, а вовсе не я. Ты же помнишь…
– Она сама мне сказала, – пояснил Кассис. – Сказала, что из нас троих у тебя единственной есть голова на плечах, есть чутье. «В этой хитрой маленькой сучке куда больше моего, чем в вас обоих, в десять раз больше!» – это ее выражение.
Звучало и впрямь правдоподобно. Я словно слышала ясный, резкий голос матери, острый, как осколок стекла. Она, наверно, была в тот момент за что-то сердита на Кассиса и не сумела подавить очередной приступ свойственной ей ярости. Она крайне редко по-настоящему нас била, но словами могла огреть не хуже плетки!
Кассис поморщился.
– И потом, знаешь, она так это сказала, – тихо прибавил он, – таким ледяным тоном, так сухо! И смотрела на меня так странно, словно испытывала. Словно ждала, как я отреагирую.
– И как ты отреагировал?
Он пожал плечами.
– Заплакал, конечно. Мне ведь было тогда всего девять.
Ну конечно же, он заплакал! Еще бы! Это как раз в его духе. Он всегда был слишком чувствительным, несмотря на все свои хулиганские выходки и внешнюю диковатость. Он часто убегал из дома, ночевал где-то в лесу или в нашем шалаше на дереве, зная, что сечь его за это мать не будет. Она, кстати, втайне поощряла подобные поступки; наверно, они казались ей проявлением непокорного нрава и силы воли. А я, окажись тогда на месте Кассиса, попросту плюнула бы ей в лицо.
– Послушай, Кассис… – Эта мысль пришла в голову внезапно, у меня даже дыхание перехватило от волнения. – А мать… Ты не помнишь, она никогда не умела говорить по-итальянски? Или по-португальски? Она никаких иностранных языков не знала?
Брат был явно ошарашен моими вопросами и лишь молча покачал головой.
– Ты уверен? А в ее альбоме…
И я поведала ему о тех записях на странном, чужом языке, о тех тайных записях, которые я так и не сумела расшифровать.
– Дай-ка мне поглядеть.
Мы стали вместе перелистывать пожелтелые страницы. Кассис с невольным восхищением касался негнущимся пальцем фотографий, засушенных цветов, крылышек бабочек, вклеенных в альбом кусочков ткани, однако я заметила, что самих записей он избегает касаться.
– Боже мой, – прошептал он. – Я ведь и понятия не имел, что она куда-то все записывает. – Он поднял на меня глаза. – И ты еще уверяешь, что не была ее любимицей!
Сперва его, казалось, больше всего заинтересовали именно кулинарные рецепты. Он водил пальцами по строчкам, и пальцы его словно обретали прежнюю ловкость.
– «Tarte mirabelle aux amandes»[21],– бормотал он. – «Tourteau fromage»[22]. «Clafoutis aux cerises rouges»[23]. Это я помню! – воскликнул он вдруг с молодым энтузиазмом, совсем как прежний Кассис, и тихо прибавил: – Тут есть все. Все.
Я ткнула пальцем в одну из записей на чужом языке.
Минуту или две брат изучал ее, потом рассмеялся и сообщил:
– Никакой это не итальянский! Неужели ты не помнишь, что это такое? – Кажется, он вовсю забавлялся; раскачивался и даже попискивал от смеха; и уши у него тряслись, большие стариковские уши, напоминавшие опенки-перестарки. – Это же папа придумал такой язык! «Bilini-enverlini», «задом наперед» – так он называл его. Разве ты не помнишь? Он и сам постоянно им пользовался.
Я попыталась вспомнить. Мне было семь, когда он погиб. Должно же было что-то остаться в памяти! Но, увы, там осталось очень мало. Все исчезло в алчной темной глотке войны. Я помнила отца лишь частично, какими-то разрозненными, странными фрагментами. Помнила, например, запах, исходивший от его старой куртки, запах табака и шариков от моли. Помнила, что он любил иерусалимские артишоки, и всем нам, хотя больше никто из нас эти артишоки не любил, приходилось раз в неделю их есть. Помнила, как однажды я случайно проткнула рыболовным крючком кожистую перепонку между указательным и большим пальцами, а он этот крючок вытаскивал; помнила его руки, обнимавшие меня, и его голос, убеждавший меня не бояться. Но его лицо я помнила только по фотографиям, расплывчатым и неясным. Где-то в глубине души таились кое-какие тайные воспоминания, не проглоченные, точнее, исторгнутые той темной безжалостной глоткой: отец, болтающий с нами на своем чепуховом языке и весело улыбающийся; смеющийся Кассис и я сама, тоже смеющаяся над какой-то не очень понятной мне шуткой; а матери в кои-то веки не видно, она где-то далеко, на безопасном расстоянии, и ничего не слышит, возможно, ее сразил один из приступов мигрени, подаривший нам этот неожиданный праздник.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
После «расшифровки» английский текст выглядит так: «I want to explain. I can not bear it any more». – «Я хочу объяснить. Я не могу больше это терпеть». (Здесь и далее примечания переводчика.)
2
Бретонские лепешки; блинный пирог по-бретонски (фр.).
3
Pistache – фисташка (фр.).
4
Noisette – лесной орех (фр.).
5
Вдова Симон (фр.).
6
Cassis (фр.) – черная смородина.
7
Framboise (фр.) – малина.
8
Reine-claude (слива-венгерка) (фр.).
9
Песочное тесто (фр.).
10
«Дурная репутация» (фр.).
11
«Блинчик с малиной» (фр.).
12
Подливка; здесь сироп (фр.).
13
«У Фрамбуазы» (фр.).
14
Обязательный, диктуемый существующими условиями или модой (фр.).
15
Мясные заготовки и паштеты (фр.).
16
Котлетки из мелкорубленой свинины или гусятины, обжаренные в сале (фр.).
17
Сухие колбаски домашнего приготовления (фр.).
18
Блинная (фр.).
19
«Хозяйка и кухня» (фр.).
20
Кускус по-провансальски, рагу из баранины в горшочке с тремя сортами фасоли (фр.).
21
Сладкий пирог из мирабели с миндалем (фр.).
22
Сырный хлеб (фр.).
23
Пирог с красной вишней (фр.).