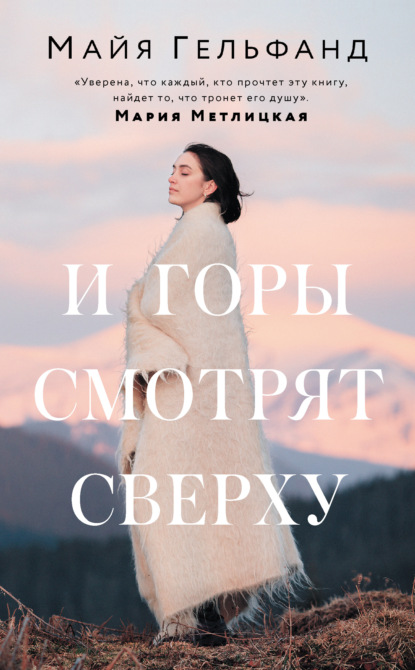Полная версия
Всегда возвращаются птицы
– Ой, держите меня семеро! – ахнула потрясенная Ксюша. – Я столько за месяц получала! У тебя что, родители начальники?
– Нет…
– С какого тогда перепугу кучу денег спустила? – дивилась, размашисто шагая, Ксюша. Говорила, не понижая голоса, на них оглядывались. – У Эльфриды «Красная Москва» была, она мне на Новый год давала попользоваться. Тоже хорошо пахнет. В тутошних магазинах «Красная Москва» свободно стоит, в коробке сразу одеколон и духи, и цена куда меньше. А ты что у барыги купила? Безделицу на одну подмышку!
– Франция же…
Ксюша захохотала:
– Франция-засранция! Поди, наша-то Москва не хужей ихнего Парижа!
– Лучшей! – развеселилась Иза. – Лучшей и большей! У них – Эйфелева башня, у нас – Ленинские горы, их еще Воробьевыми зовут! Оттуда, говорят, Москву с птичьего полета видно!
– Так айда?
Ксюшина разговорчивость быстро помогла добраться до станции нужного метро, и эскалатор-подъемник, как движимая волшебством терраса, помчал их на макушку лесистого холма над Москвой-рекой. Обнесенная гранитными перилами смотровая площадка была полна вездесущих голубей, фотографов и туристов. Ксюша подбежала к парапету с распростертыми руками:
– Здравствуй, Москва-а-а!
Лес внизу буйно клубился, нарастал к подножию и обрывался у камня набережной. Острый киль какого-то судна распарывал атласную синь, открывая в разрезе кипенный речной подол. Река широко раздвинула здесь излучистые в локтях рукава, и во все стороны от ее светлых рук, от пышного кулича «Лужников» в зеленых ладонях леса, могучими волнами разлилось пестрое море города-исполина. В густо переслоенной зеленью мозаике куполов и кровель вспыхивали золотые луковки церквей, и тысячи солнц сияли в тысячах калейдоскопических окон. Все было такое же красочное, как на открытках Бэлы Юрьевны, но просторное и живое. Скользя по величественной панораме завороженными глазами, Иза радовалась, узнавая среди глянцевой белизны храмов башенный сурик и колокольни Кремля. Взгляд останавливался на пиках сталинских высоток, слюдяных и полупрозрачных ближе к небу, на карамельно-розовых башенках Новодевичьего монастыря, на Шуховской радиобашне – поразительном подобии витой из тальника верши, какую ставят на щуку и налима в ленской береговой быстрине. Движения машинных кранов в сотах новых жилых массивов, дым заводских труб позволяли оценить колоссальный размах городского строительства. Погружаясь вдаль, разноцветное, ажурно-ступенчатое, цветущее и каменное тело столицы терялось в пеленах распаренного горизонта. А позади возвышался главный небоскреб страны, главный ее университет – воплощенная в рукотворной высоте и объемах ода вертикали. Распахнув многооконные крылья корпусов, невероятная птица советского зодчества словно собралась взлететь, присела слегка и вытянула утонченную шею к небу, где шпиль ее, увенчанный филигранной звездой, тонул в трепете предвечерней зыби.
Ксюша задыхалась от избытка чувств, не в силах оторваться от грандиозного зрелища. Пока спускались, Иза тоже все оглядывалась на площадку, оставшуюся наблюдать биноклями, как в зависимости от погоды и времени меняется необозримое пространство Москвы.
Странно было бродить по заповедным дубравам в центре большого города. В тесном плетении ветвей пели храбрые птахи, не чета робким таежным, чьи одинокие песни окутывает чуткий шелест листьев, да перебьет иногда скрипучий древесный стон либо барабанная дробь пирующей на ели желны. Некоторые деревья Иза видела впервые, но ни с какими другими не спутала бы знакомые по картинкам дубы – раскидистые шатры их крон, вязкий запах коры, отдающий застоялой кадочной водицей, их блестящие, кожистые, как перчатки, листья. Признала она и жилистые ладошки кленов, а уж липы, пусть и отцветшие, сразу заявили о себе чайным и мятным, чуть дурманным благоуханием сердцевидной листвы. Встречались сосны – толстые, в броневом корье, забранные в узловатых комлях плюшевыми оторочками ярко-зеленого мха. Совсем непохожие на гладкоствольный сосновый бор над деревней Майис. Руки помнили шелковистые на ощупь чешуйки с коры родных дерев, а может, так казалось из-за прилившей к сердцу тоски по их солнечному теплу под низким к горам северным небом.
Кусты жимолости и смородины были тут точь-в-точь как в якутском лесу. В папоротниковом кружеве топорщились крупные листья ландыша, над колокольчиками деловито жужжали шмели, собирая остатки нектара в фиолетово-синих зевах. Пролетела одна стрекозка, другая… Лазурные дети воды быстро-быстро стригли пропитанный лучистой пыльцой воздух над влажной лужайкой, зависая в нем стеклянными брошками. Значит, пруд или озеро рядом.
Внезапно послышался резкий, какой-то выпуклый звуковой сполох, идущий будто откуда-то с неба, и сильный торжественный гул заполонил горы чистыми, ясными звуками с долгим эхом, какие издавала красная медь под молотком в кузнице дяди Степана.
На зарумянившемся лице Ксюши застыло благоговение:
– К вечерне звонят.
Каждый колокольный удар, полный железного гуда, не дробился, а таял, теплел ровно, протяжным хоральным вздохом. Уходил с мягких басов в высокую глубину светлого звона, превращаясь перед новым ударом в хрустальную, мельчайшими брызгами расплеснутую воздушную взвесь. Лес притих, затаился под неземную, но таинственно естественную в мире живых существ музыку. Она походила на многократно усиленную песнь весенней капели.
Небесный звон вывел вверх, на присыпанную песком дорогу аллеи. Ее завершала белокаменная церковь постройки не помпезной, проще и строже большинства храмов в городе. В отдельной колоколенке ритмично качался звонарь, будничным благовестом призывая народ к вечерней службе. К церкви в самом деле по двое-трое направлялись люди.
– Действует, не закрыли. – Ксюша перекрестилась в сторону и заторопила: – Поехали, а то завечерело, и рюкзак мне уже тяжко таскать.
Конечная остановка троллейбусного маршрута совпала с намерением прокоротать эту ночь в гостинице на железнодорожном вокзале. Троллейбус, подвешенный подвижными усами к электрическим проводам, катился по шоссейной дороге, будто по воздушной реке. Не выказывая никаких признаков усталости, Ксюша по-прежнему восторгалась пробегающими мимо уличными деталями:
– Сыну партии – слава! – гордо зачитала надпись на плакате со снимком Гагарина и опечалилась: – А Терешкову Валентину рядом не повешали…
В радиус Ксюшиного взгляда, привычного к просторам колхозных полей, вмещалась вся заоконная Москва. Изу же утомили бесконечные конвейеры зданий и душный запах каленой мостовой, от которого замутило, как только поредела зелень. Закрыла глаза, но и тогда в темноте под веками назойливо проступила сдобная лепнина фризов, ордеров, картушей… Перенасыщенным декоративными изысками глазам было неспокойно – так случается после сбора ягод: ночью, пока не уснешь, колышутся перед тобой во мраке тронутые дымком спелости гроздья.
Рядом пассажиры обсуждали снос домов на Красной Пресне. Мужской голос радостно сообщил, что жителей коммуналок начали переселять в новые квартиры. Кто-то посочувствовал:
– В черемушкинских пятиэтажках ни лифта нет, ни мусоропровода…
– Зато кухня собственная – это же счастье!
– Ах, как жаль…
– Что вы жалеете?
– Жаль: уходит старая Москва…
Вокзал шумел и суетился не по позднему времени. В кафетерии Иза переглянулась с Ксюшей: ну и цены! Всё же выпили по чашечке кофе без цикория. Вкус у него оказался потрясающий, как у дорогого шоколада. Нагулянный аппетит на ходу усмирился купленными в киоске пирожками, Иза еще взяла невиданный грейпфрут. Ксюша попробовала и скривилась:
– Горький этот грибфрукт! Хужей апельсина. Поди, недозрелый.
Горечь в гибриде впрямь преобладала над апельсиновой сладостью и лимонной кислотой. Развенчанный плод упокоился на горке мусора в урне у гостиницы.
Пустоватый гостиничный холл разнообразили две вещи, не сказать, что приятные: меланхоличный холмик чьего-то жестоко начесанного перманента над администраторской стойкой и картонная табличка с красивой надписью: «Свободных мест нет».
– Скажите, пожалуйста, а что, совсем нет местов? – решительно осведомилась Ксюша.
– Нет, – качнулся овечий холмик.
– Ни одной койки? Мы б хоть вальтом…
Подошедший мужчина с обворожительно вкрадчивой улыбкой облокотился о стойку и вызвал заинтересованный трепет прически, сразу оказавшейся вполне симпатичной дамой. Виртуозно обогнув Ксюшу глазами, она с неподдельной отзывчивостью заговорила с новым посетителем.
Сумерки на улице сгустились, вспыхнули фонари. В полумгле, несмотря на богатую иллюминацию, материал и цвет строений победила геометрия форм. Иза представила, как прекрасна ночная Москва с обзорной площадки, и огорчилась, что не остались в лесу.
Прогулялись по набережной, украшенной циклопической гравюрой моста, по людной площади и, отойдя от бульвара, нашли проулок с уютным сквером. В глубине под кленами обнаружилась неприметная с дорожки скамья.
Иза не дождалась свербящего комариного звона. Не тайга… Вечерний город мерцал светлячками окон, из кобальтовой выси сочилась звездная пыль, и снова кольнувшая сердце тоска неожиданно вырвалась вслух:
– А у нас белые ночи.
– Где это «у нас»?
Поддавшись искреннему Ксюшиному интересу и магнетическому сиянию звезд, Иза нечаянно рассказала о себе все. Ну, почти все. Будто прыгнула с высокого обрыва в реку и, пока летела, вся жизнь пронеслась перед глазами. В какие-то двадцать минут слов вместились те близкие люди, кто ушел, и те, кто остался, деревня дяди Степана и Майис, улица Карла Байкалова, детдом и школа. Иза удивилась малости своей жизни, хотя так подробно и долго никому ничего не рассказывала. Ксюша слушала очень внимательно, только вздыхала слабым эхом. «Жалеет», – сообразила Иза, смутилась и смолкла.
– Извиняй, что я про твоих родителей как о начальниках подумала. – Ксюша гулко высморкалась в платочек. – Ну, из-за духов-то…
– С детства мечтала о таких.
– Мало ли что намечтается, а ты не трать. – Ксюшин голос окреп и посуровел. – Вот поступим вместе и купим тебе зимнюю справу, а то все материны деньги на хахряшки спустишь.
– Ты, Ксюш, с Забайкалья родом, я правильно поняла? – спросила Иза, хитроумно сворачивая с наставительной темы.
– С него, – охотно переключилась на себя Ксюша. – Тятя говорил, что наши семейские пришли туда давно, при Екатерине. Могет, и раньше. Где примечали пахотные земли, там останавливались.
– Семейские – народ?
– Народ-то народ, да не нация. Старообрядцы. Есть общинники, и безобщинные, и совсем темной веры, ни газет не читают, ни радио не слушают. А семейские потому, что после Никонова раскола жгли их, казнили, гнали отовсюду, и шли они по земле большими семьями. Правда, потом разошлись: кто в Забайкалье, кто на Алтае осел, а тятина родня вообще в Австралии живет. Письма не пишут, власти не велят, но тятя где-то вызнал – хорошо живут, – Ксюша засмеялась, – даже отлично, с собаками-дингами и кенгурями. Тятя до того, как паралич его хватил, бывало, на милицию рассердится и в Австралию «едет». «Надоели! – кричит. – Уеду к австралам!» Милиционеры нет-нет да приходили, искали чего-то. Говорили – сектанты вы. Почуем иной раз неладное, либо соседи предупредят, мама иконки в дерюжку завернет и закопает в назем, в огородном срубе для рассады… Тятя однажды с участковым повздорил, так тот кур в мешок покидал и утащил. Хотел тятя председателю пожаловаться, а мама сказала: «Ну их, из-за клахтушек связываться». Боялась, что отца могут посадить. Как семье без тяти? Нас, детишек, девятеро, вечно зыбка в избе. Старшие в школу, мы на вторую смену катанки ждем. Брат принесется, я в них влезу – теплые, и бегом на уроки. Утром дома хлебом пахнет, восемь караваев вмещается в нашу печь, если мука в запасе, а нет – на гольной бульбе сидим. В каникулы зерно перебирали для семени, чтоб колхоз цельное сеял, не посеченное, отделяли лебеду и полынь. Полынное семечко на гречку похоже, «торицей» называется. Эти отходы брали домой. Мама торицу через жернов пропустит, горькие караваи, а вкусные-е! Она браво стряпает. Мы как-то компанией на маевку пошли, снедь достали, гляжу – булки у всех белые, молосные, а мне мама ржаной сгибень сготовила. Я его, неказистый, с краешку приткнула. Покушали, ищу сгибенек – нету, вчистую подмели, а с ихних булок половина осталась… Потом наши старшие в колхоз записались. Навалом белого зерна выдали им в первый год на трудодни, вот была радость! Зимовали с пшеничным хлебом.
– А вера ваша семейская, Ксюша, сохранилась?
– Ну, иконы не вешаем – опасно. Когда прятать не надо, мама на полку ложит.
– Значит, ты в бога веришь?
– Как не верить, если все от Его? Мама говорит: «Что ни делаешь – Бога в душе держи».
– Разве ты не комсомолка?
– Комсомолка. А одно другому не мешает. Я так думаю: все хорошее, что есть на земле – дружба, труд, доброта человечья, комсомол и коммунизм, науки разные, – от Его. Почему, скажи, когда песни поешь, в душе так светло? Потому что и песни от Бога. Семейских хлебом не корми – спеть дай. Сеют – поют, пашут – поют, плачут ли, веселятся – все одно поют. У нас дома все певучие. Как назовешь фамилию, чужие люди вспоминают: «А-а, это те Степанцовы, что ярманку остановили!» Легенда есть. Ехал народ на ярманку, дорога в обозах, негде ступить. А дедка мой с братьями лукавство задумали. Сложили мешки на дедкину телегу, он поехал, а братья вышли на гору над дорогой и давай песни петь. Обозы встали, народ про все на свете забыл. Пока концерт слушали, на базар опоздали. Дедка в тот день браво наторговал. После ярманки просто так на горушке пел, от радости, и те, что обратно ехали, опять останавливалися… Все мы, Степанцовы, с двоюродными братьями-сестрами с концертов по праздникам не вылазиим. Я так со второго класса. Работать начала, и то отпускали после обеда на репетиции.
– Ты тоже в колхозе работала?
– Не, в школьной столовой. Отпраздновали, помню, День революции, и поехала я в районную больницу медкарточку заполнять. По докторам сходила, остался гинеколог – врачиха по женскому организму, Кнолль фамилия. Вот она и есть Эльфрида Оттовна, тама я с ней познакомилась. Спрашивает: «Половой жизнью живешь?» Я не поняла. Она снова: «Спишь с кем?» «Ой, – говорю, – сколь себя помню, столь половой жизнью и живу!» Эльфрида посмотрела мне внутрь. «Зачем врешь?» Я в обиду: «Ничего не вру! У нас дома только родители на кровати спят, а мы, ребятня, как с зыбки, так на пол. Войлок постелем и спим». Глупая была, насмешила ее… После больницы я по маминым заказам в магазин прошвырнулась и опоздала на последний автобус. Никого в райцентре не знаю. Как назло, ветер подул. Стою-плачу, замерзла. Глянь – давешня гинеколог идет: «Чего ревешь, половая жизнь?» Пожалела меня, позвала к себе. Дома у нее отопление казенное, плита диковинная, телефон. Позвонила в сельсовет, велела маму предупредить, чтоб не теряли. Почаевали с комбинатовскими булочками, Эльфрида пластинку поставила. Пластинок у нее!.. Не поверишь, вся полка в пластинках. «Музыку, – говорит, – любишь?» «Не просто люблю, – говорю, – а и сама играю и пою лучше всех у нас в клубе». «Спой», – велит, как Вельяминов в управлении сегодня. Ну, я спела. Одну песню, вторую. Она все: «Пой, пой!» Сама чего-то заволновалась, забегала по комнате. Про школу спросила. «Надо бы в вечернюю!» А какая вечерняя в нашем колхозе? Я семь-то классов кое-как кончила, не близко ходили в другое село гурьбой. Эльфрида подумала-подумала и предложила санитаркой поступить в стационар. «У меня, – говорит, – будешь жить и учиться». Я поначалу не хотела, чужой все-таки человек. Она мне: «Подумай». Мама жалела пускать – к чему, мол, лишняя грамота, а тятя сказал: «Могет, наша Ксюха в большие люди выбьется». Три года я у Эльфриды жила, работала в стационаре и в вечернюю школу ходила. А однажды летом в отпуску замуж выскочила. Недолго за мужем сидела, вернулась к врачихе… Ох, как она с моей учебной нехотью воевала! Заставила дотянуть до аттестата. Аккордеон помогла купить, чтоб я музыкой занималась сама. Дорогущий… Я его на прощанье братишке подарила, он тоже играет. Выучусь, заработаю и новый куплю, или даже пианино.
– Эльфрида Оттовна – немка?
– Да, из Германии самой, антифашистка. Подпольщицей была. В тридцать восьмом попросилася в Советский Союз. Дали ей в Москве политическое прибежище, лекции читала в институте. Не простая врачиха, ученая, генетик по биологии. Есть такая наука – генетика.
Ксюша многозначительно посмотрела на Изу: спросит – не спросит? Иза спросила.
– Генетика изучает передачу наследства, – с готовностью принялась объяснять Ксюша. – Вот, к примеру, человек поет хорошо, а почему? Потому что родители хорошо поют и передали ему голос красивый по хромосомной теории, которую генетики придумали. Но другие ученые эту теорию опровергли, назвали неправильной и буржуйской. Особо один против выступал, Волосанко фамилия.
Ксюша наморщила лоб.
– Нет, Лысенко, кажись… Да хоть как. Главное – Сталин ему верил, поэтому партия объявила, что любого человека можно воспитать певцом или художником без всяких генов. Гены запретили, Эльфриду Оттовну эвакуировали к нам, аккурат война грянула. Позволили работать в больнице, а многих ейных друзей отправили в тюрьму. Теперь вроде всех освободили. Восстановилась ихняя генетика. Эльфриду зовут в Москву, а она уже никуда не хочет. Старая, говорит, стала, в науке пусть молодые экспериментируют. Даже в ГДР не хочет, родня-то вся в Западной Германии осталась…
– Спой что-нибу-удь, – зевнула Иза. Впечатлений и переживаний за день случился переизбыток, хотелось спать.
– Милиция набежать могет. Хулиганы, собаки.
– А ты негромко.
– Ладно. Тятину песню спою про Степанку-солдата.
Ой, по морю, да-а по синю,Ой, корабли гу-удят.Плывет с войны на-а-а войнуБравый Степанка-а солдат.Голос Ксюши ничем не напоминал Полинин. У Полины был с резковатыми звонцами в высоких нотах – то вился, как крутой ручей, то трепетал, как шелковый шарф на ветру. Этот забирал глубоко, дна не видно. Не голос плыл – текла тихая река с чистой, мягкой водой.
Ой, да грудь его-о в орденах,Ой, а сам еще моло-одой.Просит генера-алов солдатОтпустить его-о домой.Огни в домах погасли, кто-то уже видел первые сны. Ксюша, наверное, усыпила своей спокойной песней всех ближайших милиционеров, хулиганов и собак. Иза не слышала колыбельных с тех пор, как умерла мама…
Ой, да генера-алы мои,Ой, давно я мать не видал.С тятей не паха-ал я земли,Женушку не це-еловал.Ой, да генера-алы говорят:«Ой, да море – сине вода.Позабудь о до-оме, солдат,Не вернешься ты никогда».Чемодан Иза сунула под голову, укрылась свитером. Было тепло, а с Ксюшей – не страшно. В глазах мелькала конфетная, карнавальная московская палитра. Отбитый осколок Царь-колокола, прислоненный к постаменту, доверчиво блеснул по краям спрятанной в патине бронзой. С душистых лип, источая грустный аромат «Мицуко», летели цветочные зонтики. Жесткие дубовые листья шептались со стрекозками на языке лесных духов… Пестрая «ярманка» дня скакала обратно, наискосок, вперемешку и, вихрясь разноперым потоком, уносился в ночь. Иза крепче схватилась за круглую землю, чтобы не выпасть в космос. Звезды улыбались на черном бархате, как африканский гость в туннельном поезде. Блэк энд уайт… Между звездами вклинилась луна – пористый, недозрелый, разочаровавший горечью южный плод. Грейпфрутовая луна вдруг обернулась желтым прицепом с разливным квасом. Точно такой же, окутанный хмельными парами и облаком пьяных мух, каждое лето стоял у крыльца магазина в Залоге. Дома… Подумалось с жалостью: не пустили домой Степанку-солдатика.
Глава 8
Как много в этом звуке
С видного места в вестибюле свысока смотрела на всех Доска почета с фотографиями студентов-отличников. Под ней томилась очередь в первую коридорную дверь с табличкой «Приемная комиссия». Иза с Ксюшей удлинили собой хвост очереди, а минут через пять она растянулась до лестницы на второй этаж. Ксюша то и дело бегала к входу смотреть в окно: боялась пропустить Вельяминова. Поступающие заходили в судьбоносный кабинет по одному. Табличка на мгновение взблескивала в полутьме, и толпу пронизывал сдавленный вздох.
Из двери выглянул импозантный старик в седом венчике вокруг благородной лысины, и Ксюша испуганно ойкнула. Оглянувшись на «ой», он обнажил в улыбке литую вставную челюсть. «Вельяминов», – поняла Иза.
Вельяминов, возникший с внеплановой стороны, почему-то навлек оторопь на свою протеже. Ксюша так смешалась, что забыла поздороваться, а когда старик взял ее за руку, инстинктивно уперлась. Иза молча подталкивала Ксюшу в спину, старик молча тащил ее куда-то, но безмолвная Ксюша была сильнее и стояла, как столб. Очередь, разумеется, заинтересовалась, возликовала и частью высыпала в вестибюль наблюдать за нечаянной пантомимой. Вельяминов рассердился:
– Не на эшафот идете, только из уважения к Эле время теряю!
– К какой Эле? – отмерла Ксюша.
– Наверно, к Эльфриде Оттовне, – шепнула Иза, и заторможенная Ксюша покорно стронулась с места, словно ей сказали «сим-селабим».
– Блатная, – осенило кого-то в толпе. – Надо жаловаться!
Вельяминов сделал вид, что ничего не услышал, Ксюша ускорила шаги, а плечи повесила.
– У нее талант, – обиделась Иза за новую подружку. – Голос народный, и направление из районного Дома культуры.
– У меня от республики направление, и то сомневаюсь.
– Эти договорятся, а мы с носом останемся…
– Такие везде пролазят!
Пока «эти и такие» поднимались по лестнице, Иза вертела головой, не успевая отвечать на злые реплики, и лихорадочно соображала, что еще сказать в защиту Ксюши. А Ксюша скоро сама сумела за себя постоять.
Вначале со второго этажа просквозил неуверенный, будто недоумевающий звук, мало похожий на человеческий голос – подобные стоны доносятся под утро из хмарей туманных болот. Но не успела толпа рассмеяться, как голос выровнялся, окреп, вырвался на свободу и, точно хлестнувшее в луга половодье, затопил видимое и невидимое пространство.
– …мне ль по силам Ты тяжкий крест даешь?
Невольные слушатели придушенно вскрикнули – не ожидали, что их всем скопом выбросит в реку, как донскую казачку с моста. Не простой рекой лилась песня! Словно из глубины земли русской поднялась величавая ширь, былинная мощь, вдохнула волнение в души и позвала за собой медноустым малиновым звоном.
– Шаляпин в юбке!
Кому-то в голову пришло вчерашнее Изино сравнение:
– Фрося Бурлакова. Надо было сразу в консерваторию топать.
– Да-а, все бы блатные так пели…
Бог ли подарил Ксюше чудотворный голос, или певучие деды-раскольники, но была она, безусловно, талантлива. Не согласиться с этой очевидностью мог человек только с ограниченным слухом, а таковых среди приближенных к искусству не оказалось.
– Что она поет?
– Ариозо из кантаты Чайковского «Москва», – пояснил высокий парень, чья мальчишеская физиономия веселым маяком сияла над волнами голов, а каштановая шевелюра нуждалась в стрижке.
– У девушки очень низкое контральто, но ведь партия-то для меццо-сопрано, – осторожно заметил второй знаток.
– Большой диапазон! – горячо возразили ему.
– Тс-с-с… Дайте дослушать.
Волшебный голос Ксюши разогнал насупленные против нее тучи, как авиация разгоняет их к первомайскому параду. Те, кто возмущался, теперь молчали в тряпочку, а певица не знала, что с каждой нотой обретает союзников и поклонников. Живая музыка текла вольно, светло, хотя несла слова сомнений и метаний, молитвы и веры. Минуя древние поселения, приютившиеся у подножия княжьего града, песня начала взмывать к вершинам семи разновеликих холмов, ближе и ближе к Кремлю, жарче, звонче… Красный колокольный перебор, звон-город!
– Кто силу даст, силу крепкую?! – потребовал у кого-то ответа наполненный тревогой голос и, озаренный свыше, с торжественным воинским смирением утвердил клятву: – …Христов венец.
Вестибюль взорвался аплодисментами.
– Пишите жалобы, товарищи завистники, – засмеялся «маяк».
Иза поспешно отвернулась: парень поймал ее рассматривающий взгляд. Глаза у него были цвета жженого сахара, темного меда с коричневыми чаинками. Наверное, на той реке, откуда он родом, веснушчатые сердолики. А еще Иза удивилась их подозрительному блеску. Прослезился он, что ли, от Ксюшиной песни?..
Иногородних отправили в студенческое общежитие. Недалеко обнаружился гастроном, и девчонки наскоро перекусили кексами с молоком из треугольных пакетов. Воодушевленная успехом Ксюша кипела учебным рвением, будто для подготовки к сочинению ее сомнительной грамматике хватило бы оставшихся пяти дней. Сграбастала свой рюкзак, чемодан и побежала к четырехэтажному дому в конце аллеи – налегке не догнать. Иза и не пыталась. Шла, с зябкой дрожью вспоминая неприятного человека в кабинете приемной комиссии. Он испортил все радостное настроение после Ксюшиной песни. Вначале Иза не обратила внимания на мужчину, который бесшумно прохаживался за столами. Вчитавшись в ее анкету из-за плеча институтского представителя, он вдруг бесцеремонно выхватил у него из-под носа Изины документы и бегло просмотрел листок с автобиографией. На короткий вопрос мужчины Иза ответила так же коротко. Он кивнул и больше ни о чем не спросил, но в нее успел заглянуть детский страх. С тех пор как директор школы запретил ей петь советские патриотические песни, никто не интересовался политическим статусом ее родителей…