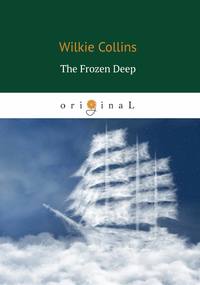Полная версия
Армадэль, или Проклятие имени
В один летний день, вскоре после того как Аллану исполнилось шестнадцать лет, мистер Брок оставил своего ученика прилежно работающим на верфи и пошел провести вечер с миссис Армадэль, взяв с собой «Таймс».
В годы, прошедшие после первой их встречи, отношения ректора и его соседки давно уже установились. Первые попытки к тому, чтобы заслужить расположение вдовы – попытки, которые заставил сделать мистера Брока его возрастающий интерес к миссис Армадэль в первое время их знакомства, она тактично приняла со своей стороны просьбой, заставившей его никогда не говорить об этом более. Она уверила пастора раз и навсегда, что единственное место в ее сердце, которое он мог надеяться занять, было место друга. Он настолько любил ее, что рад был принять все, что она хотела предложить ему. Они сделались и оставались друзьями с того времени. Ревнивое опасение, что другой мужчина будет иметь успех там, где он потерпел неудачу, не вносило горечи в спокойные отношения ректора с любимой им женщиной. Из немногих мужчин, живших в этих окрестностях, миссис Армадэль никого не допускала к короткому знакомству с собой. Она добровольно погребла себя в своем сельском уединении, и никакие радости света, которые могли бы прельстить других женщин в ее положении и в ее летах, на нее не имели ни малейшего действия. Мистер Брок, со своей газетой являвшийся с постоянной аккуратностью за ее чайным столом три раза в неделю, сообщал ей все, что она желала знать о внешнем мире, окружавшем тесные и неизменные границы ее ежедневной жизни.
В тот вечер, о котором идет речь, мистер Брок сел в кресло, в котором он всегда сидел, выпил чашку чая, которую он всегда пил, и развернул газету, которую он всегда читал вслух миссис Армадэль, которая всегда слушала его, прислонившись к спинке того же дивана и всегда с той же самой работой в руках.
– Господи боже мой! – закричал ректор, с удивлением устремив глаза на первую страницу газеты.
Никогда такого вступления к вечернему чтению не случалось слышать миссис Армадэль. Она с любопытством подняла глаза и попросила своего почтенного друга удостоить ее объяснением.
– Я не верю своим глазам, – сказал Брок. – Здесь есть объявление, миссис Армадэль, адресованное вашему сыну.
Без дальнейших предисловий он прочел следующее объявление:
– «Если эти строки попадутся на глаза Аллана Армадэля, его просят: или пожаловать лично, или прислать свой адрес к гг. Гэммику и Риджу (в Лондоне, в Линкольн-Инн), которые имеют сообщить ему важное дело, касающееся его. Всякий, кто может сообщить гг. Г. и Р. где можно найти Аллана Армадэля, сделает большое одолжение. Для предупреждения ошибок необходимо заметить, что находящийся неизвестно где Аллан Армадэль – юноша пятнадцати лет и что это объявление напечатано по желанию его родных и друзей».
– Другие родные и другие друзья, – сказала миссис Армадэль. – Это объявление относится не к моему сыну.
Тон, которым она говорила, удивил Брока. Перемена в ее лице неприятно поразила его. Ее нежный цвет щек принял какой-то мертвенно-бледный оттенок. Она отвернулась от своего гостя со страшной смесью замешательства и испуга. Миссис, казалось, вдруг постарела на десять лет.
– Это имя такое необыкновенное, – сказал Брок, вообразив, что он оскорбил ее, и стараясь извиниться. – Казалось решительно невозможным, чтоб могло быть два человека…
– Их два, – перебила миссис Армадэль. – Аллану, как вам известно, шестнадцать лет. Если вы опять взглянете на объявление, вы найдете, что человеку, находящемуся неизвестно где, только пятнадцать лет. Хотя он носит ту же фамилию и то же имя, он, слава богу, вовсе не родня моему сыну. Пока я жива, главной целью моих надежд и моих молитв будет то, чтобы Аллан никогда его не видел и даже никогда о нем не слышал. Мой добрый друг, я вижу, что удивляю вас. Простите ли вы мне, если я не объясню вам эти странные обстоятельства? В моей прежней жизни были такие несчастья и такие огорчения, что мне слишком тяжело говорить о них даже вам. Поможете ли вы мне забыть это время, никогда не упоминая об этом? Хотите ли вы сделать еще более: хотите обещать мне не говорить об этом Аллану и сделать так, чтобы эта газета не попалась ему на глаза?
Мистер Брок дал требуемое обещание и оставил миссис Армадэль одну.
Ректор был так долго и так искренно привязан к миссис Армадэль, что не мог смотреть на нее с малейшим недоверием. Но бесполезно будет отрицать, что его несколько разочаровало ее недоверие к нему и что он с любопытством смотрел на объявление не раз, возвращаясь домой. Теперь было довольно ясно, что причина, заставившая Армадэль похоронить себя и сына заживо в отдаленной деревеньке, заключалась не столько в том, чтобы держать его на глазах, сколько в том, чтобы не допустить однофамильца сына найти его. Почему она опасалась их встречи? За себя или за Аллана опасалась она этого? Благородное доверие мистера Брока к его другу не позволяло ему разрешить загадку предположением о каком-нибудь проступке миссис Армадэль в прошлом – проступке, с которым соединялись бы те мучительные воспоминания, о которых она намекала, или то отчуждение ее братьев, которое разлучило ее на столько лет с родными и с домашним кровом. В этот вечер мистер Брок собственными руками уничтожил объявление; в этот вечер он решил, что никогда более не будет думать об этом предмете. На свете был другой Аллан Армадэль, чужой по крови его ученику и бродяга, которого отыскивали по объявлению в газете. Этот случай открыл ему немногое. Более – ради миссис Армадэль – он не желал узнать большего.
Это было второе происшествие из ряда событий, начавшихся со времени знакомства ректора с миссис Армадэль и ее сыном. Воспоминания мистера Брока, касаясь других событий и обстоятельств, остановились на третьем происшествии тысяча восемьсот пятидесятого года.
Пять прошедших к этому времени лет не сделали почти никакой перемены в характере Аллана. Он просто сделался (употребляя собственные слова его воспитателя) из шестнадцатилетнего мальчика молодым человеком двадцати одного года. Аллан был такой же откровенный и великодушный, как прежде, точно такой же неизменно веселый, точно такой же опрометчивый и поддававшийся впечатлениям, увлекавшим его. Наклонность его к морю увеличивалась с годами. Начав строить лодку, он теперь с двумя работниками, которыми распоряжался, уже строил яхту в тридцать пять тонн. Мистер Брок добросовестно старался привлечь его к более высоким стремлениям. Он возил его в Оксфорд посмотреть на университетскую жизнь, возил его в Лондон, чтобы развить его ум зрелищем достопримечательностей столицы. Перемена развлекала Аллана, но ни в чем не изменила его. Он был так же недоступен для мирского честолюбия, как сам Диоген.
«Что лучше, – спрашивал этот философ, – постараться самому найти способ, как быть счастливым, или представить другим, не могут ли они отыскать этот способ для нас?»
С этой минуты мистер Брок предоставил характеру своего ученика развиваться на свободе. Аллан непрерывно работал над своей яхтой.
Время, так мало изменившее сына, не так безвредно обошлось с матерью. Здоровье миссис Армадэль быстро разрушалось. По мере того как покидали ее силы, характер ее изменялся к худшему. Она сделалась беспокойнее, более поддавалась болезненным опасениям и фантазиям и все менее чувствовала желание выходить из своей комнаты. После объявления в газете в течение пяти лет ничего не случилось такого, что напомнило бы ей неприятные происшествия ее прежней жизни. Между ректором и миссис не было произнесено более ни одного слова о запрещенном предмете, ни малейшего подозрения не было возбуждено в душе Аллана о существовании его однофамильца. А между тем, не имея ни малейшего повода к беспокойству, миссис Армадэль в последние годы как-то упорно и странно тревожилась за своего сына. Одно время она радовалась его фантазии строить яхту, что делало его счастливым и занятым в ее глазах. Немного времени спустя она с ужасом говорила о том, как он поплывет по вероломному океану, где ее муж нашел смерть. То в одном вопросе, то в другом она выводила сына из терпения, как этого никогда не случалось в то время, когда она была здоровее и счастливее. Мистер Брок не раз опасался серьезного разлада между ними. Но природная кротость Аллана, подкрепляемая его любовью к матери, помогла ему переносить эти испытания. Ни одного сурового слова, ни одного жесткого взгляда не вырвалось у него в ее присутствии, он был исполнен к ней неизменной любви и терпения.
Таково было положение сына, матери и друга, когда следующее достопримечательное происшествие случилось с ними. В один пасмурный день в первых числах ноября, когда мистер Брок сочинял проповедь, его посетил хозяин деревенской гостиницы.
После предварительных извинений трактирщик сообщил важное дело, которое привело его в пасторат. Несколько часов назад земледельцы, работавшие в окрестностях, привели в гостиницу молодого человека. Они нашли его расхаживающим по полю их хозяина в таком сильном расстройстве, что приняли это за помешательство. Трактирщик дал приют бедному молодому человеку и послал за доктором, который, осмотрев больного, объявил, что он страдает воспалением в мозгу и что переезд его в ближайший город, в котором есть госпиталь или лечебница при рабочем доме, по всей вероятности, будет гибелен для его здоровья. Услышав это и приметив, что вся поклажа незнакомца заключается в небольшом дорожном мешке, который был найден возле него на поле, трактирщик тотчас отправился посоветоваться с ректором, что ему делать в таком серьезном и непредвиденном случае.
Мистер Брок был не только ректором, но и судьей этого округа и нисколько не затруднился относительно того, что теперь следует делать. Он надел шляпу и отправился с трактирщиком в гостиницу.
У дверей гостиницы к ним присоединился Аллан, узнавший о случившемся от других и ожидавший мистера Брока, чтоб посмотреть на незнакомца. В эту же минуту к ним присоединился деревенский доктор, и все четверо пошли в гостиницу.
Они нашли сына трактирщика с одной стороны, а дворника с другой, удерживавших незнакомца на стуле. Молодой, худощавый и невысокого роста, он был так силен в эту минуту, что даже двоим трудно было сладить с ним. Его смуглый цвет лица, большие блестящие карие глаза, черные усы и такая же борода придавали ему вид уроженца юга. Платье незнакомца было несколько изношено, но белье чистое. Смуглые руки нервно подергивались и во многих местах были покрыты синими шрамами от старых ран. Палец одной ноги, с которой он сбросил башмак, ухватился за ножку стула сквозь чулок с той большой силой, которую можно только видеть у тех, кто привык ходить босиком. При том неистовом бешенстве, в котором он теперь находился, невозможно было приметить ничего более. Посоветовавшись с мистером Броком, доктор под своим личным надзором велел перенести больного в тихую спальню в задней стороне дома. Вскоре после того его платье и дорожный мешок были принесены вниз и осмотрены в надежде найти какую-нибудь нить, которая подала бы возможность написать к его друзьям.
В дорожном мешке не было ничего, кроме перемены платья и двух книг – трагедии Софокла на греческом языке и «Фауста» Гете на немецком. Обе книги были истерты от чтения, а на заглавном листе каждой были написаны начальные буквы. О. М. Более ничего в мешке не нашлось.
Потом осмотрели платье, которое было на этом человеке, когда его нашли в поле. Из кармана постепенно были вынуты кошелек, в котором лежали соверен и несколько шиллингов, трубка, кисет, носовой платок и роговой стакан. Последняя вещь найдена была небрежно скомканной в нагрудном кармане сюртука. Это был аттестат, подписанный и с числом, но без адреса. Судя по этому документу, история незнакомца была очень печальная. Он недолгое время занимал место учителя в школе, и в начале его болезни ему отказали из опасения, что его болезнь может быть заразительна и что, следовательно, все заведение может пострадать. Ни малейшего обвинения в дурном поведении не было в аттестате, напротив, школьный учитель с удовольствием свидетельствовал о его способностях и его характере и горячо желал, чтобы он выздоровел в каком-нибудь другом месте.
Аттестат, объяснявший несколько историю этого человека, послужил еще одной цели – он указывал, что заглавные буквы на книге принадлежали его имени. И судья, и трактирщик узнали, что он носил странное и необыкновенное имя – Озайяз Мидуинтер.
Мистер Брок положил в сторону аттестат, подозревая, что школьный учитель с намерением не писал свой адрес, чтобы уклониться от всякой ответственности в случае смерти его коллеги. Во всяком случае, очевидно, было бесполезно при существующих обстоятельствах отыскивать друзей несчастного, если только он имел их. Его привели в гостиницу, и по долгу обыкновенного человеколюбия он должен был остаться пока в гостинице. Затруднение насчет издержек, если бы болезнь приняла затяжное течение, можно было устранить благотворительной подпиской в этих окрестностях или сбором после обедни в церкви. Заверив трактирщика, что он подумает по этому вопросу и даст ему знать, как он решится, мистер Брок ушел из гостиницы, не приметив, что оставил там Аллана.
Прежде чем он отошел шагов на пятьдесят, Аллан нагнал его. В то время пока продолжался осмотр вещей в гостинице, Аллан был необыкновенно молчалив и серьезен, но теперь к нему возвратилась его обыкновенная веселость. Посторонний подумал бы, что ему недостает самого обыкновенного чувства сострадания.
– Какое это печальное обстоятельство! – сказал ректор. – Я, право, не знаю, что лучше сделать для этого несчастного человека.
– Можете успокоиться, сэр, – отвечал Армадэль со своим обыкновенным чистосердечием. – Я уже все решил с трактирщиком несколько минут тому назад.
– Вы! – воскликнул Брок с чрезвычайным удивлением.
– Я только сделал несколько простых распоряжений, – продолжал Аллан. – Наш приятель, учитель, будет иметь все нужное, и с ним станут обращаться как с принцем, а когда доктору и трактирщику понадобятся деньги, они обратятся ко мне.
– Любезный Аллан, – кротко заметил мистер Брок, – когда вы научитесь думать, прежде чем действовать по вашим великодушным впечатлениям? Вы уже истратили гораздо больше денег на вашу яхту, чем позволяют ваши средства…
– Подумайте только! Мы положили третьего дня первые доски на палубе, – сказал Аллан, переходя к новому предмету со своей обыкновенной непосредственностью. Сделано столько, что по ней уже можно ходить, если только голова не закружится. Я помогу вам подняться по лестнице, мистер Брок, если вы придете посмотреть.
– Выслушайте меня, – настаивал ректор. – Я теперь говорю не о яхте, то есть я упомянул о яхте только для примера…
– И прекрасного примера, – заметил неисправимый Аллан. – Найдите мне во всей Англии маленькую яхту такой величины, красивее моей, и я завтра же брошу ее строить… О чем мы разговаривали, сэр? Я боюсь, что мы несколько отошли от темы.
– Я боюсь, что один из нас имеет привычку терять нить разговора каждый раз, как раскрывает рот, – возразил Брок. – Полно, полно, Аллан! Это дело серьезное. Вы взяли на себя расходы, которые не будете в состоянии заплатить. Заметьте, я вовсе не порицаю вас за ваше доброе чувство к этому бедному человеку…
– Не отчаивайтесь за него, сэр, он выздоровеет, он будет совсем здоров через неделю. Отличный человек, я в этом не сомневаюсь! – продолжал Аллан, который имел привычку верить каждому и не отчаиваться ни в чем. – Не пригласите ли вы его обедать, когда он выздоровеет, мистер Брок? Мне хотелось бы знать, когда мы все трое будем дружески сидеть за вином, как ему досталось такое необыкновенное имя – Озайяз Мидуинтер. Ей-богу, отцу его следовало бы стыдиться самого себя.
– Будете вы отвечать мне на один вопрос, прежде чем я уйду домой? – спросил ректор, с тревогой останавливаясь у своей калитки. – Счет этого человека за квартиру и за лечение может простираться до двадцати или тридцати фунтов, прежде чем он выздоровеет, если только он выздоровеет. Как вы это заплатите?
– Что говорит канцлер казначейства, когда запутается в своих отчетах и не знает, как ему выпутаться? – спросил Аллан. – Он всегда говорит своему благородному другу, что он готов сократить расход в том или другом…
– То есть оставляя резерв на всякий случай? – намекнул Брок.
– Именно, – сказал Аллан. – Я похож на канцлера казначейства. Я оставляю в своих расходах резерв – яхта поглощает не все мои доходы. Если у меня недостает фунта два – не бойтесь, сэр. Во мне нет гордости, я пойду по кругу со шляпой и пополню недостаток сбором с соседей. Позвольте! О чем мы? Опять мы отвлеклись. О! Я вспомнил. Мы говорили о деньгах. Вот чего я не могу вбить в мою тупую голову, – заключил Аллан, не сознавая, что он проповедует идеи социализма пастору. – Почему все так хлопочут о том, чтоб денег иметь больше? Почему людям, у которых есть лишние деньги, не отдать их тем, у кого их нет, и таким образом все на свете было бы гладко и хорошо? Вы всегда мне говорите, чтоб я старался развивать хорошие идеи, мистер Брок. Вот эта идея, кажется мне, совсем не дурна.
Мистер Брок шутливо задел своего ученика тростью.
– Ступайте на свою яхту, – сказал он. – Все идеи, какие только могли уместиться в вашей легкомысленной голове, оставьте на яхте в вашем ящике с инструментами. «Как кончит этот мальчик? – продолжал ректор, оставшись один. – Этого не может сказать ни один человек. Я почти жалею, зачем я взял на себя ответственность за его воспитание».
Прошло три недели, прежде чем незнакомец, носивший такое странное имя, почувствовал себя лучше. В это время Аллан постоянно справлялся о нем в гостинице. И как только больному позволили принимать посетителей, Аллан первый появился у его кровати. До сих пор ученик мистера Брока не проявлял особого интереса к одному из немногих романтических происшествий, нарушивших однообразие деревенской жизни: он не допустил никакой неосторожности и не подвергнул себя порицанию. Но по мере того как проходили дни, молодой Армадэль стал оставаться в гостинице гораздо долее прежнего, и доктор (человек пожилой и осторожный) посоветовал ректору принять надлежащие меры. Мистер Брок немедленно последовал этому совету и увидел, что Аллан под влиянием своей обычной впечатлительности ведет себя опрометчиво. Он сильно привязался к изгнанному учителю и пригласил Озайяза Мидуинтера поселиться в этих краях навсегда, видя в нем своего искреннего друга.
Прежде чем мистер Брок сообразил, как ему действовать в таком непредвиденном обстоятельстве, он получил записку от матери Аллана, просившей своего старого друга навестить ее. Ректор нашел миссис Армадэль в сильном волнении, вызванном свиданием с сыном. Аллан провел с ней все утро и все время говорил только о своем новом друге. Человек с ужасным именем (так называла его бедная миссис Армадэль) расспрашивал Аллана с больной пытливостью о нем самом и его родных, но о своей жизни не сказал ни слова. В прежнее время, намекнул он, привык к мореплаванию. К несчастью, Аллан, влюбленный в море, с восторгом услышал это, и между ними тотчас установилась еще более крепкая связь. Испытывая огромное недоверие к незнакомцу только потому, что он был незнакомцем, – это казалось мистеру Броку довольно безрассудно, – миссис Армадэль уговорила ректора идти в гостиницу, не теряя ни минуты, и непременно заставить незнакомца подробно объяснить, кто он.
– Разузнайте все о его отце и матери, – сказала она со своей женской требовательностью. – Удостоверьтесь, прежде чем оставите его, что это не бродяга, странствующий под чужим именем.
– Любезная миссис Армадэль, – возразил ректор, послушно взяв шляпу, – во всем другом, пожалуй, мы можем сомневаться, но имя этого человека должно быть настоящее. Никакое человеческое существо в здравом рассудке не назовет себя Озайязом Мидуинтером.
– Может быть, вы правы, а я ошибаюсь, только, пожалуйста, повидайтесь с ним, – настаивала миссис Армадэль. – Ступайте и не щадите его, мистер Брок. Мы должны твердо знать, не нарочно ли притворился он больным?
Бесполезно было спорить с ней. Если бы весь медицинский факультет дал свидетельство о болезни этого человека, в теперешнем настроении миссис Армадэль не поверила бы и факультету. Мистер Брок выбрал самый благополучный способ, чтобы выпутаться из затруднения: он не сказал ничего и немедленно отправился в гостиницу.
На Озайяза Мидуинтера, оправившегося от болезни, страшно было смотреть. Его обритая голова, обвязанная старым желтым шелковым носовым платком, его смуглые впалые щеки, его блестящие карие глаза, неестественно большие и какие-то дикие, растрепанная черная борода, длинные, гибкие пальцы, исхудалые от болезни до того, что походили больше на когти, – все произвело на ректора тяжелое впечатление уже в самом начале свидания. Когда прошло первое неприятное чувство, последовавшее затем было также не весьма приятным. Мистер Брок не мог скрыть от себя, что поведение незнакомца было не в его пользу. Существует мнение, что если человек честен, то он чувствует себя спокойно, прямо смотря на тех, с кем он говорит. Если этот человек нечестен, то в разговоре он старается смотреть в сторону, и это выдает его нечестность. Очень может быть, что бегающие глаза незнакомца были следствием той болезни, которая захватила весь его организм и ощущалась в каждом подергивании его худощавого и гибкого тела. У пышущего здоровьем ректора по коже пробегали мурашки при каждом движении гибких смуглых пальцев учителя и при каждом судорожном подергивании его смуглого лица.
«Прости меня, Господи! – думал Брок, вспомнив об Аллане и его матери. – А я желал бы придумать способ выгнать Озайяза Мидуинтера опять на все четыре стороны!»
Разговор, начавшийся между ними, был очень осторожный. Брок искусно пробовал разузнать все, необходимое ему, но, как ни старался, его вежливо оставляли в неведении насчет того, что ему хотелось знать. С начала до конца разговора Озайяз Мидуинтер ушел от всех попыток ректора разведать его. Он начал уверением, которому невозможно было поверить, глядя на него, – он объявил, что ему только двадцать лет. Все, что можно было попросить его рассказать о школе, наводило на мысль о том, что одно воспоминание о ней было ужасно для него. Он занимал место учителя только десять дней, когда первые признаки болезни заставили отказать ему. Как он добрался до поля, на котором его нашли, – этого он не мог сказать. Незнакомец помнил, что долго ехал по железной дороге с намерением (если только он имел какое-нибудь намерение), о котором он теперь не мог вспомнить, а потом шел по направлению к берегу пешком целый день или целую ночь – наверно он не знал. Море осталось в его памяти, когда рассудок начал ему изменять. Озайяз Мидуинтер в детстве служил на море, потом бросил это место и поступил к книгопродавцу в одном провинциальном городке. И работу книгопродавца бросил и попробовал поступить учителем в школу. На этот раз из школы уволили его, и Мидуинтер должен был выбрать что-нибудь другое. Но незнакомец был уверен, что, возьмись он за что бы то ни было, неудача (в которой некого было обвинять, кроме него самого) ожидает его рано или поздно. Друзей, к которым он мог бы обратиться, у Озайяза Мидуинтера не было, а о родственниках он не желает говорить. Он думает, что они, может быть, умерли, а они думают, может быть, что он умер. Нечего опровергать, что это печальное признание в его лета. Это может повредить ему в мнении других и без сомнения вредит в мнении господина, разговаривающего с ним в эту минуту.
Эти странные ответы были даны таким тоном и с таким спокойствием, которые вовсе не показывали горечи, с одной стороны, и равнодушия – с другой. Озайяз Мидуинтер в двадцать лет говорил о своей жизни, как мог бы говорить Озайяз Мидуинтер семидесяти лет, терпеливо перенесший долгие утомительные годы.
Два обстоятельства говорили против того недоверия, с каким мистер Брок смотрел на Озайяза. Он написал в банк, находившийся в отдаленной части Англии, в котором лежали его деньги, взял их оттуда и заплатил доктору и трактирщику. Человек непорядочный, поступив таким образом, не считал бы себя обязанным никому, расплатившись по счетам. Озайяз Мидуинтер говорил о тех, кому он был обязан, особенно об Аллане, с такой горячей признательностью, что это не только удивительно, но и тягостно было слышать. С большой искренностью восхищался он, что с ним поступили по-христиански в христианской земле. Он говорил о том, что Аллан взял на себя все издержки по содержанию и лечению его, с признательностью и удивлением.
– Я никогда не встречал человека, похожего на него! Я никогда не слыхал ни о ком, кто походил бы на него! – восторгался бывший учитель.
Через минуту этот проблеск признания, сверкнувший, как молния, опять погас во мраке. Его блуждающий взор по-прежнему устремился в сторону от мистера Брока, а голос стал опять неестественно твердым и спокойным.
– Извините, сэр, – сказал он, – я привык к тому, чтобы меня преследовали, обманывали, морили голодом. Все другое кажется мне странным.