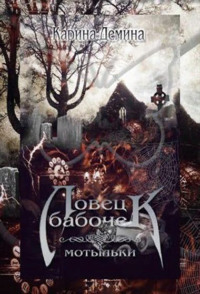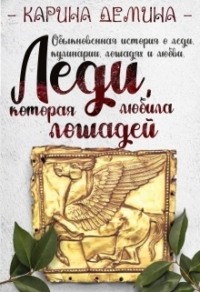Полная версия
Внучка берендеева в чародейской академии
Хорошие часы.
Бабка их страсть до чего любит… бережет… оно и понятно, что памятью они о муже осталися.
Но Михайло Егорыч про те часы не знал, а потому и разливался:
– Ныне же они иной точный инструмент готовят. Скажем, компасы аль навигационные махины… или иные какие механизмусы. Говорят, что в царском дворце стоит золотой павлин, который всю царскую еду пробует. И если почует отраву, то мигом закричит.
– Так и почует? – в этакое диво я не больно-то поверила.
– Тысячу ядов различить способен, – подтвердил Михайло Егорыч. – А еще есть такой механизмус, который царское повеление по всем городам вмиг разносит. Сидит при этом механизмусе маг обученный да стучит особой иголочкой по пластине. Оттого рождается волна, которая во все стороны расходится, и как доходит до иного города, так там другая пластина звенеть начинает. И иголочка сама по ней пляшет, а меж пластиной и иголочкой – бумага тонкая папиросная лежит. Вот на ней-то и выкалываются знаки, которые уже иной городской маг считывает.
Я только и могла, что головой покачать: неужто и вправду подобное возможно?
– А вот там, сударыня Зослава, видно и здание Акадэмии… да-да, те самые красные крыши, что над стеною поставлены. Это башни, которые еще при Болеславе Добром строили, чтоб собирать со всего миру талантливых детей да учить их магической грамоте. Тогда же Акадэмии были дарованы всяческие вольности…
Крыши я видела, острые, со шпилями, на которых красные звезды сидели. Издали они гляделись невзаправдошними, какими-то леденцовыми. И страсть хотелось высунуть руку в окошко, дотянуться до шпиля-палочки и обломать себе одну звезду. Тут я вспомнила, что не ела с раннего утра, а утром ела трактирную еду, потому как бабулины пирожки давным-давно закончилися.
На воспоминание это живот мой отозвался урчанием.
Ничего.
Потерпится.
– Студиозусы, если они, конечно, не отчислены, – продолжал меж тем рассказывать Михайло Егорыч, – не подлежат суду царскому. А ежели учинят какое непотребство, то город пишет жалобу, по которой в Акадэмии разбирательство устраивают. И там уже определяют меру вины.
Он замолчал, упершись в подбородок сложенными щепотью пальцами.
– Конечно, имелись прецеденты, когда студиозусы не просто шалили, но совершали самое настоящее преступление. Тогда их прилюдно лишали студенческого звания, запечатывали дар и передавали уже на цареву милость. К счастью, такое происходит редко. На самом деле Акадэмия занимает довольно-таки обширные территории. С каждым годом от основания их прибывало, поскольку каждый царь понимал, что сильна страна не только пушками да пушкарями, но и магами… что и показала последняя война.
Сказал и вновь замолчал.
Потерял кого?
Все тогда кого-то да потеряли… бабуля моя – деда… я – родителей… да только не век горю душу глодать. Божиня, чай, велела детям своим не слезы лить, а жить да жизни радоваться.
Только до чего тяжко порой исполнять ее заветы.
– Студиозусы не только учатся, но и живут на территории Акадэмии… если, конечно, будет на то их желание и ректорское дозволение. Иные предпочитают в городе и столоваться, и квартирку снимать… но ты, думаю, захочешь остаться.
Я кивнула: была бы печаль деньгу тратить, когда тебе все забесплатно дают?
О том мне тоже Михайло Егорыч поведал. Следовало сказать, что про Акадэмию он знал много и рассказывал охотно, а проведав, что я поступать собралася, вовсе обрадовался несказанно и с той поры именовал меня сударыней Зославой, будто бы я уже грамоту получила. Нет, приятно, что уж тут, но страсть до чего непривычно. Я-то по первости робела да краснела, но дню этак к третьему пообвыклася.
– Всего факультетов шесть, – меж тем продолжил Михайло Егорович. – Общей магии. Теоретической магии. Магии стихийной, разделенный на четыре кафедры. Факультет мертвых сфер. Целительства и нестандартных практик. И боевой. Вы, сударыня Зослава, полагаю, на целительский поступать будете?
Я об этом еще не думала, мне представлялось, что надобно добраться до Академии, а после оно уже само собою решится. О том я и сказала Михайло Егоровичу, который от энтих слов пришел в большое возбуждение.
– Вы в корне неправы, дорогая моя! – Он аж на седушке заерзал. – Категорически! От вашего нынешнего выбора зависит многое! Да что там многое! Вся ваша будущая жизнь!
Соседка тоненько засопела, приоткрыла глаза, но убедившись, что возок худо-бедно движется, вновь провалилась в полудрему.
– Вот, скажем, представьте, что человек, не имеющий к тому природной расположенности, пожелает целителем стать. Разве выйдет с того толк? И ему на всю жизнь мучение, и пациентам его – погибель…
Я задумалась: а ведь и верно… вот вспомнить Михася нашего, которого тятька евоный все хотел грамоте выучить, чтоб Михась не шкуры выделывал, а при управе боярской службу нес легкую, чистую. Да только не лезла наука в Михася. Уж пороли его, пороли, да природа свое взяла. Зато на отцово дело у него рука сразу стала. И нет во всех селах, что ближних, что дальних, такого мастера, который с Михасем сравнится. Он и за тяжелые бычьи шкуры возьмется, и драгоценную лису не спортит… как есть призвание.
– Или вот человек малосильный, допустим, попытается в боевики пойти… желание – оно-то ладно, да только куда ему потом, когда он только и способен создать, что шар-огневик? Или бывает еще, что родители желают видеть дитятко в ученых, а в нем сила кипит, не дает покоя… так что, сударыня Зослава, надобно хорошенько свой выбор обдумать. Вот чего вам от жизни надобно?
Чудной какой вопрос.
Того же, чего и всем людям.
Мужа доброго, деток справных, да чтобы дом – полная чаша, и житья мирного.
Так я ему и сказала. Михайло Егорович хмыкнул, взгляд кинул хитроватый да бороденку куцую в кулачок зажал.
– Экие у тебя желания… правильные.
– Отчего правильные?
Только за бороденку себя дернул и поинтересовался:
– А что ж ты, сударыня Заслава, за своими желаниями аж в Акадэмию поехала?
– Так я того… не за желаниями, я за женихом…
Михайло Егорович аж крякнул. И пришлось пояснить:
– В дома-то нету никого… нет, парни есть, да все…
– Не те, – задумчиво произнес он. – За женихом, значит… что ж, цель не хуже иных прочих. Во всяком случае, конкретная и честная. Но тогда, сударыня Зослава, тебе не на целительский факультет поступать надо. Там девки одни, парней раз-два да обчелся…
Замолчал Михайло Егорович, да только я и сама поняла. Где девок много, а мужиков мало, там грызня. Небось, замуж не только мне охота, вот и будут одна перед другой рядиться, казать свои стати да умения, пока край не потеряют. Видела я такое в позапрошлым годе, когда старостин молодший сын еще холостым был. Ох и грызлися помеж собой девки, что собаки за бычий мосел. А он, ирод такой, знай себе ходил гоголем да приговаривал, что самую лучшую выберет… долго ходил, пока батька евоный за хворостину не взялся.
Сам женку и подыскал.
Нет, не хочу такого…
– На факультет общей магии лишь бы кого не возьмут… теоретический… боюсь, сударыня Зослава, с некоторых пор сей факультет уже и не магический, пристанище для младших дворянских детишек, которым образование надобно, как этой карете пятое колесо. Но родители платят золотом. А золота, сами понимаете, мало не бывает.
Золото у меня имелось, но вот были и подозрения, что на учебу его не хватит…
– Тем более нынешний год… Стихия… тут надобно иметь ярко выраженную доминанту, которой у вас нет.
– Отчего ж нет?
– На ауре отразилась бы, – ответил Михайло Егорович. – Стихийники имеют весьма четкие метки, но силой вас Божиня не обделила. Остаются два факультета. Мертвых сфер и боевой… некромантия, подозреваю, вас не привлечет.
Я мотнула головой: уж не было печали с мертвяками возиться. Девушка я крепкая, конечно, но уж больно брезгливая…
– Значит, боевой… – Он окинул меня цепким взглядом, точно барышник лошадку. – А скажите-ка, сударыня Зосенька… как вас по батюшке?
– Вильгельминовна, – розовея, призналась я.
– Вот даже как…
– Зослава Вильгельминовна Берендеева, – я произнесла полное имя и глянула с вызовом. И что, что батюшка мой был не из наших краев? Он о той своей жизни и вспоминать-то не любил, повторяя, что ничего-то хорошего в ней и не было. Зато и прижился тут, и жил, пока не сгинул, за эту самую землицу и сгинул, как за родную.
– Берендеева… а дед ваш часом…
Я вновь кивнула.
– От и чудесно… просто замечательно, – Михайло Егорыч прям-таки разулыбался весь. – Смело идите на боевой… там вы точно себе жениха подыщете… там этих женихов – целый факультет.
И хихикнул так странненько.
– А если вдруг завернуть попробуют, то покажите им вот это. – Михайло Егорович протянул серебряную монетку с дыркой…
Глава 4
О столицах и первых сложностях поступления
– И позвольте узнать, откуда у вас эта… вещь? – Люциана Береславовна, мою монетку увидав, ажно с лица спала.
Правда, того лица на ней…
Но верно, сказывать надобно по порядку.
Возок наш остановился перед трактиром «Зеленая голова», однако же Михайло Егорович – вот любезный человек, не чета иным, – отсоветовал в нем нумера брать. Дескать, комнатки тесные, грязные и просют за них втридорога, думая, что ежели человек не из местных, да притомившийся с дороги, то ему недосуг новое пристанище искать. Михайло Егорович выловил мальчишку, каковых у трактира крутилось множество – от бездельники! – и велел проводить меня к «Вяленой щуке».
Там я и заночевала.
Признаться, спала крепко и мысли всякие пустые меня не тревожили. Проснувшись спозаранку, я и принялась готовиться к поступлению.
Проверила бумаги отцовские, взгрустнула слегка – он бы, верно, за меня порадовался…
Умылась студеной водицей.
Косу переплела.
И из дедова туесочка наряды свои достала, впервые пожалев, что взяла-то всего пять… три – простенькие, на каждый день, а два – уж на особый случай.
На споднюю тонкотканную рубаху надела горничную[1] из алого шелку с рукавами в десять локтей. Самой подбирать их оказалось жуть до чего неудобно, но ничего, справилась. Запястьями узорчатыми сверху прижала, оно и ладно вышло.
Поясочком перехватила.
А сверху летник накинула, тоже красивый, из темно-зеленого переливчатого аксамиту, отрез которого еще моим тятенькой куплен был. Шили-то уже мы с бабкой, а расшивала я, как водится в Барсуках, самолично. Вот и вился по подолу вьюнок, поднимал робко розовые колокольчики цветов… помню, долго нитки искала, чтоб ложилось гладко да славно. А теперь от гляжу и понимаю, что не зря мучилася.
Ленты в косы.
Бусы в семь рядов на шею.
Перстни, серьги и венчик узорчатый. Кривые чеботы из бархату да на каблучке. Новехонькие, ни разу не надеванные… иду, и каблучки звенят-цокают.
Люд встречный расходится.
Сама себе не пава – лебедушка… не иду по мостовой – плыву… и плыла бы так до самой Акадэмии, да только энта мостовая уж больно грязною оказалась.
Да и идти неблизенько.
И солнце с каждою минутой выше подымается, щедрей припекает. А еще подумалось, что пока я пешью дойду, то у ворот Акадэмии очередь выстроится.
Пришлось брать бричку.
И главное, мужичок хитроватый попался, увидел меня этакою раскрасавицей и цену несусветную заломил – в полтора рубля серебром. Небось, не думал, что торговаться стану. А я что? Я ж, пусть и вырядилась, барыня барыней, так то неспроста, но по случаю. Деньгами ж раскидываться я вовсе привычки не имею.
Долго рядились.
Сговорились на десяти грошах.
И он после еще всю дорогу плакался, будто бы я его в разорение ввожу… но ничего, доехали аккурат к полудню. К самым воротам подвез. А ворота те распахнуты. И люду у них – великие толпища, небось, и на ярмарке ежегодной я столько не видела.
Аж сердце заняло.
Неужто все в Акадэмию собралися?
А мужичок знай себе в бороду усмехается: мол, не ждала, красавица?
– Дяденько, – я протянула ему на пять грошей сверх оговореного. – Сподмогните советом. А то ж совсем в ваших столицах потеряюся.
И лицо сделала жалостливое, едино слезу не пустила.
Он разом приосанился, бороденку рыжую всклоченную ручищей огладил и молвил так:
– Ты, девка, не пужайся. Народу тут много, особливо по нынешней поре. Но ищи студиозуса… вон хотя б того, – он указал на парня в черном коротком кафтанчике. – Видишь, по форме он… и с эмблемою на грудях. Значится, или студиозус, или из магиков кто. Вот к нему и иди, говори, что ты, мол, на экзаменацию документы отдать желаешь.
– Спасибо, дяденька, за ласку, – отвечала я и поклонилась до самой земли, небось, спина не переломится, а человеку приятственно.
– Эх, девка-девка… чего ж тебе дома-то не сиделось? – Дядька подобрел, хотя монетки все взял да в кушак упрятал.
– А остальные-то кто?
– Кто из родичей, вовнутрь-то только соискателей пущають. А иные соискатели не одныя, вот как ты, а с мамками-тятьками, бывает, что и с нянюшками, с холопами и холопками… вона, поглянь.
Он указал пальцем налево.
А там… возки один другого краше. И о двух колесах, и о четырех. И преогромные, с домину величиной, и крохотные, будто бы детские. С золочением, с червлением, с резьбою всяко-разною… а при возках тех иной люд вертится.
Тут и конюшие, и служивые с бердышами важно прохаживаются. И барыни в шубках одна перед другою красуются, ведут беседу неспешную, и бояре в высоких каракульчовых шапках стоят, истуканы истуканами. А промеж них суетится дворня. Кто с подносом, кто с коробом. С кувшинами запотевшими, со стаканами аль полотенчиками… и скачут помеж возков карлы шутейные, кривляются всячески.
– Это же ж…
– Бояре, – сказал мужичок да на землю сплюнул. – Только и им в Акадэмию ходу нет, а ты, девка, иди… и пусть Божиня за тобою приглядит…
Вышло все так, как мужичок и говорил.
Я ухватила того самого парня, в черном кафтанчике, и сказала, что, дескать, в Акадэмию, он только кивнул да вздохнул тяжко, видать, крепко умаялся.
– За мной, – велел он и пошел к воротам. И главное, что так ловко, угрем скользил меж людями, что я едва-едва поспевала. Меня-то пропускать не торопилися. Напротив, норовили то дорогу заступить, то локотком острым ткнуть, то прошипеть чего недоброго вослед.
Провел парень меня через калиточку и, махнув рукой на желтую дорожку, велел:
– Иди прямо. Никуда не сворачивай. Там и выйдешь к главному зданию.
Я и пошла.
Не особо спешила-то, потому как прелюбопытно мне было поглазеть. Там-то еще неведомо, как оно сложится-сойдется, вдруг да выпадет домой возвертаться. И станут меня спрашивать, что про столицу, что про Акадэмию. Так и чего сказать будет?
Шла… дорожка пряменькая.
Чистенькая.
Слева травка растет. И справа тоже… зелененькая, нарядная… пригляделась – клевер один. Хорошее сено вышло бы, да только незаметно было, чтоб туточки косили. Кусты еще заприметила дивные, что и не кусты будто бы, а конь вот зеленый стоит… или змей преогромный протянулся… попервости даже испужалась, а после поняла, что стригли их этак хитро.
Были тут и деревца, да какие-то махонькие, будто бы заморенные, и камушками вокруг еще обложенные… и сами каменья из земли торчали, то там, то тут, зубами гнилыми, мхом заросшими.
Так и дошла.
Что сказать, строения была огроменной.
Длинная, что общинный коровник, только и высокая. По краям – четыре башенки красных, а из крыши еще одна подымается. И на ней уже блестят на солнышке часы преогромные. Я так и стала, этакой красой любуясь. Вместо цифирей на том циферблате звери дивные, каковые, должно быть, на краю земли только и водятся, а стрелки узорчатые, кружевные будто бы. И самая тоненькая знай скользит по циферблату, скачет от зверя к зверю, время отсчитывает.
А над часами – четверик коней на дыбы поднялся. И голый мужик немалых статей повис на поводьях, должно быть, укорот коням дать желая. Но как по мне – не сдюжил бы… верно, оттого и мужика перекосило.
Во внутрях тоже было красиво, как в палатах царских. Нет, мне-то не случалось в них бывать, однако же ежели где и имелось подобное роскошество, то только там.
Полы каменные, гладкие да узорчатые. Стены – янтарные. И колонны числом в дюжину, тоже янтарем обложены, и свет сквозь островерхие окна льется, янтарь золотит… и ступить-то страшно. Хотя люди вон ступают смело…
– Помочь? – рядом со мною появился парень в черном кафтане, будто бы из-под земли выскочил. – Ты документы подавать? Я провожу.
От провожатого отказываться я не стала.
В этом благолепии и заблудиться недолго… вона людей сколько ходит-бродит с лицами презадуменными. Иные и губами шевелят, не то молятся, не то с собою спорят. Лбы морщат. За носы себя щиплют…
– Сначала надобно зарегистрироваться у секретаря…
Паренек был щупленький и верткий, что ерш. И волосы его, стриженные коротко, на голове подымались аккурат что иглы ершовые. Так и тянуло их пригладить.
Вел он меня быстро, и опомниться не успела, как встала перед дубовою дверью, после была другая дверь, и третья, и четвертая… и вскорости я уже сама со счета сбилась.
Заявление.
И еще одно.
И ходатайство, которое я писала с образца, дивясь тому, до чего гладенько оно составлено, так, небось, не каждый боярский писарчук сподобится.
Говоря по правде, от бумаг голова шла кругом.
Мне совали то одни, то другие, то третьи… и то писать надо было, то черкать, то еще чего… и когда я, наконец, добрела до экзаменаторов, сил на волнение уже не осталось. Я глядела на очередные двери, вновь же солидные, с резьбою и медными, начищенными до блеска ручками, и думала, что хоть пополам тресну, поступаючи, а сумею в энту Акадэмию пробраться.
Из упрямства свово урожденного.
И чтоб не зазря переведены были все те бумаги, мною исчерканные…
– Заходи, – раздался тоненький дребезжащий голосок, и из двери выглянул домовой. Был он под стать хозяйству, солиден без меры, важен. И длинный красный нос драл в гору, и всем видом своим выказывал ко мне, гостье, неуважение. Оно и верно, меня-то пока уважить не за что, да только и ему, хозяину, в этакой манере чести немного. – Ну, чего встала?
И кулачком еще пригрозил.
Смотрю, совсем они туточки страх потеряли. Но промолчала, покачала головой укоризненно и вошла. А как вошла, то и обомлела.
Камень?
Камень как есть, да только не теплый янтарь, и не мрамора, которую я тоже успела повидать и пощупать сумела, нет, нынешний камень был полупрозрачным, точно и не камень – лед. И неуютно стало… холодно… окна закрыты, а будто бы сквознячком по ногам тянет… и холод пробирается, что сквозь летник, что сквозь рубахи. Запястья и те заледенели. А бусы – что рябина мерзлая, инеем покрылись.
Глава 5
Про экзамены и экзаменаторов, а также ущемление прав по сословно-половому признаку
– Девушка, вы там долго стоять собираетесь? – раздался скрежещущий голосок, и я очнулась.
И вправду, встала, что баран перед воротами, осталось только рот от удивления раззявить, и совсем ладно будет.
На ковер, бело-синий, узорчатый, я ступила смело. Хотя и сквозь ковер, и через чеботы, чувствовался тот самый, нездешний холод.
А ковер лег дорогой от дверей к окнам.
У окон столы стали широченные. А вдоль них – лавки протянулись, застланные мехами плотно, густо. Экзаменаторы и вовсе в шубах сидели.
И шубейки-то не из простых.
Вон женщина, по виду ну чисто боярыня, в чернобурку кутается, а рядом с нею мужик сидит преогромный, что камень-вывертень, который еще с тех времен остался, когда Святогор-горошек со Змеем землю делили. Говорят, этакие камни по всей границе стоят. Некогда великой силы полны были, берегли землю Росскую, да, видать, поиссякла сила.
Не уберегли.
Лицо у мужчины безбородое, будто голое. И брови черные лохматые на нем глядятся жутко, за ними и глаз не видать.
К нему сухонькая старушка жмется, что ива к старому дубу, и вид у старушки ласковый, глядит на меня, улыбается, а глаза мертвые. Я руки за спиной кукишем скрутила. От этаких взглядов и волос сыпаться начинает, и кожа вянет, а то и вовсе ночные сны дурными становятся. А шуба у старушки самая богатая, из темных, почти черных, соболей. И накинута этак на плечики легко, так, что видно и платье, расшитое скатным жемчугом, и ожерелье-нагрудник, и широкие, не чета моим, запястья.
– Значит, ты, деточка, в Акадэмию поступить решила? – заговорила она, а голосок-то оказался звонкий, детский будто бы, никак краденый.
Слышала я о таком, когда колдунья-чернодейка подсовывает дитяти дудку из мертвой березы, изнутри вересковым медом мазаную. Вот голос-то на мед и выманивается. А колдунья его опосля и выпивает, а дитяти свое хриплое карканье отдает, если не хуже… бывает, что и немеют дети, и маются опосля всю жизнь.
Нет, не понравилась мне эта старушка.
А девка, по правую руку ее сидевшая, тем паче. Эта в шубы-то закуталась по самый нос, а нос оказался длинен невмерно и еще широк. Оттого и казалось, что нет на этом лице ничего, помимо носу. Зато он был зело подвижный. То шмыгнет, то складочкой пойдет, то вовсе покрасневший кончик его, на котором проклюнулось зерно бородавки, круга опишет, будто бы девица принюхивается.
Чего чует?
– Отвечай! – велела она и по носу ладонью мазнула. – Не тяни время… и без того умаялись уже.
Голос ее я узнала, тот самый, скрипучий, точно ставни несмазанные.
– Тише, деточка, – старушка к ней и не повернулась. – Не видишь, девушка оробела. Пусть успокоится, придет в себя… а ты, милая, не чинись, ближе подойди.
И пальчиком меня поманила.
Пальчики тоненькие.
На них – колечки с каменьями, на каждом по два, а то и по три, и каменья переливаются, искрятся. Я только и сумела взгляд отвести, у самого стола оказавшись.
Это что такое было?
– Не сердись, Берендеева дочь…
– Внучка, – поправила я.
– Берендеева внучка, – старушка вновь усмехнулась, да только глаза ее не отжили. – Я лишь хотела избавить тебя от ненужных страхов…
– Я не боюся…
– Вот и ладно. Тогда, будь столь любезна, подай бумаги Мирославе.
И девка со скрипучим голосом руку протянула. У нее перстенек был только один, да и тот без камня, простое колечко на мизинчике.
Папку с бумагами, мне врученную, я протянула не без опаски. Видно же, что характера сия девка самого препаскудного. А ну как учинит какую каверзу?
– Зослава… Вильгельминовна, – сказала девка, пролистав мои бумаги. – Из села Большие Барсуки… Божиня милосердная… Большие Барсуки…
И перекривилась, будто бы чего непристойного прочла. А что? Село как село. Немаленькое, за между прочим. У нас и храм свой имеется, и гостинный дом, в котором, правда, гости случаются нечасто, затое есть где собраться и старикам, и молодым зимою, гистории всякие послушать, песни попеть или в игры сыграть…
– Напрасно, Славонька, кривишься, – сказала старушка, в голосе ее ледок зазвенел. – Не всем же столичною родней хвастать.
Мирослава вспыхнула.
– Дамы, – мужчина покачнулся, а мне подумалось, что ежели он вдруг повалиться вздумает, то стол энтот его не выдержит, хоть и дубовый, солидного виду. – Давайте уж делом займемся. А вы, девушка, кладите руки на шар.
И пальцем ткнул в энтот самый шар, выточенный из того же камня-стекла. Был шар невелик, с телячью голову, да только холодком от него тянуло крепко.
Руки? Так и отморозить недолго.
– Не надо бояться, деточка. Мы лишь измерим уровень твоей силы.
Да не боюся я! Не пужливая уродилась. И шар обеими ладонями накрыла.
– Хорошо. А теперь глаза закройте.
Закрыла.
– И попытайтесь его согреть.
От это дело не из легких. В руках – не шар, живая поземка, которая за руки эти кусает, пробивает кажный пальчик сотнею игл. И бросить бы, да только я бросать дело на половине не привычная. Шар сжала, зубы стиснула.
Согреть?
Согреет.
Жар рождался внутри.
Как в кузнечной печи… как в черной яме, в которой ходит болотная руда, прежде чем прольет слезы сырого железа… и этот жар плавит меня саму.
Одолеть норовит.
Да только не на ту напал. Я губу закусила, верно, до крови, потому как стало во рту солоно. И шар треклятущий держу, лью в него новорожденное пламя. Тесню холод…
– Достаточно, – раздался над самым ухом глухой рокочущий голос. – Мирослава, отметьте, пожалуйста, что испытуемая подняла планку до седьмой ступени… даже восьмой.
– Седьмой, – упрямо проскрежетала Мирослава.
– Если вам так будет легче.
Я глаза открыла.
Шар был… желтым? Янтарным. Да с переливами…
– Восьмой, седьмой… – проворчала женщина в чернобурках и, вытащив из муфты руку, поднесла ее ко рту. – Какая разница… для целительницы и третьей хватит. Заканчивайте уже… собеседоваться.
Говорила она томно, негромко, однако же на слух Зося не жаловалась.