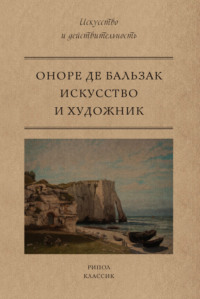полная версия
полная версияСочинения
«А в остальном я вполне стою старикана», – подумала она и повернулась на другой бок, будто удостоверяясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.
С этого дня в течение трех месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно придать дому достойный вид, в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похваляться, что г-н Горио – один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». И дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала, из пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобеленовой мануфактуры, есть миленький сад, а в конце его простирается липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на полях битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что доложила еще своих. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обедала переманить к ней из квартала Марэ[21] баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе более дорогом, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.
– Но канцелярии все тянут без конца, – говорила она.
После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносмородинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амбермениль очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать, она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио – мужчина первый сорт.
– Ах, дорогая! – говорила ей вдова Воке. – Этот мужчина свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.
Графиня великодушно дала кое-какие указания г-же Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы.
– Надо вас привести в боевую готовность, – сказала она ей.
После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в Деревянной галлерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жената», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Беф а ля мод».[22] Тем не менее сама она нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и преподнесла ей шляпку в двадцать франков, хотя и не отличалась тароватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно – выспросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амбермениль весьма по-дружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и, наконец, добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желаньем соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать – отпор, папаши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика и вышла.
– Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! – сказала она своей подруге. – Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.
Между графиней де л'Амбермениль и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермениль. Она часто вспоминала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного, – странное психологическое явление, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, – а как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желанье показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать любовь или уважение людей им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это только долг; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем меньше они его любят; чем дальше он от них, тем больше их старанье услужить. И, несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по самому существу своему мелкие, лживые и гадкие.
– Будь я тогда здесь, – говаривал Вотрен, – с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на свежую воду. Их штучки мне знакомы.
Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее первопричиной такого злоключенья оказался честный вермишельщик; с той поры у нее, как говорила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел, по выражению ее, свои замашки. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо знаток в этих делах. В своей неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдвое пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелочных поступков. Вдова, пустив в ход все женское коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в общий стол.
– Никаких корнишонов, никаких анчоусов: от них один убыток! – объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.
Господин Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говядина, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалась нелегким делом для г-жи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к нему, тем самым внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее месте.
К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец, при его доходе в семь-восемь тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и, несоразмерно с состоянием, так скупо тратился на свой пансион? В течение большей части первого года Горио нередко, раз или два в неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки г-на Горио удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда жилец начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привычка карликовых умов приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до девятисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зимою. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на Горио, которого все же с той поры стала звать «папаша Горио».
О причинах этого падения строили догадки все кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Горио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нечего сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимается зловредными делами. Так «именитый купец» превратился в мазурика, а «волокита» – в старого шута. Папаша Горио то оказывался человеком, который забегал на биржу и там, по энергичному выражению финансового языка, пощипывал на ренте, после того, как разорился на большой игре, – такова была версия Вотрена, поселившегося тогда в «Доме Воке»; а то он был одним из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков десять. То из него делали шпиона тайной полиции, – но, по уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы достигнуть этого. Кроме того, папаша Горио был также скрягой, ссужившим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестья, немощи, порока. Однакоже, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы иго изгнать: за пансион-то он платил. К тому же от него была и польза: каждый, высмеивая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение.
Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и получило общее признание. По ее словам, этот «хорошо сохранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного», был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.
Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, г-жа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Горио в заранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, одетая, как божество, в прюнелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точно угорь, с улицы к ней на кухню и спросила, где квартирует господин Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же г-н Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия надела на руку корзинку, как будто бы отправилась на рынок, и пошла следом за любовной парочкой.
– Сударыня, – сказала она вернувшись, – а, надо быть, господин Горио богат чертовски, коли ничего не жалеет для своих красоток. Верите ли, на углу Эстрапады[23] стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села она!
Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы папаше Горио солнце не било в глаза.
– Господин Горио, вас любят красотки, – смотрите, как солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она прехорошенькая, – сказала вдова, намекая на его гостью.
– Это моя дочь, – ответил Горио с гордостью, которую нахлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия.
Спустя месяц со времени первого визита к Горио – последовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда, в выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаши Горио.
– Да их две! – заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.
Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Горио.
– Да их три! – воскликнула Сильвия.
Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет.
– Целых четыре! – воскликнули г-жа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром.
Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести франков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении выдать их за своих дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она нисколько не была в претензии, что он их принимал в «Доме Воке». Но так как этими посещениями объяснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «старый кот». Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя одну из этих дам, сходившую с лестницы, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама его старшая дочь.
– Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли? – съязвила г-жа Воке.
– Только две дочери, – ответил ей жилец смиренно, как человек разорившийся, дошедший до полной покорности из-за нужды.
К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос – грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, становясь под гнетом тайных горестей день ото дня все печальнее, казалась самой удрученной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений: папаша Горио – это старый распутник, только благодаря искусству врачей сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос – следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и душевное состояние бедняги, казалось оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по четырнадцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности – все ушло одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фраком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричневого цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио все худел и худел; икры опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года житья на улице Нев-Сент-Женевьев он стал сам на себя непохож. Милый вермишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше сорока, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь глядел семидесятилетним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! – теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красная закраина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он омерзение, другим – жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он страдает кретинизмом.
Как то вечером, по окончании обеда, когда вдова Воке насмешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочки перестали навещать вас?» – ставя этим под сомнение его отцовство, папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием.
– Иногда они заходят, – ответил он взволнованным голосом.
– Ах, вот как! Иногда вы их еще видаете? – воскликнули студенты. Браво, папаша Горио!
Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверхностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он выжил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений, но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, и сейчас же стремительность парижской жизни уносила воспоминанье о бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения г-жи Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила:
– Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и ходить как нищий?
Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было; злоупотребление удовольствиями превратило его в улитку, в человекообразного моллюска из отряда фуражконосных, как выразился «разовый» нахлебник, чиновник Естественноисторического музея… Даже Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рассуждал, давал ответы; правда, в разговоре – и в рассуждениях, и в ответах – он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять-таки по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания.
Растиньяк, съездив домой, вернулся в настроении, хорошо знакомом молодым людям, если они очень способны вообще или если в них под действием тяжелых обстоятельств вдруг пробуждаются на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показными прелестями Парижа. Студенту нехватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и злачные места, послушать занимательные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтоб он держался на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает галстук и принимает красивые позы ради какой-либо женщины, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исподволь он входит в жизнь, обтесывается, расширяет свой кругозор и постигает, наконец, соотношение различных слоев в человеческом обществе. Начав заглядываться на вереницу колясок, движущихся при ярком солнце по Елисейским Полям, он скоро пожелает обзавестись своим выездом.
Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изменились, а честолюбие безмерно разрослось, и, живя в родной усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство которой заключалось в пенсии, жили в маленьком именье Растиньяк. Это поместье с доходом около трех тысяч франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда, и, несмотря на это, требовалось ежегодно еще извлекать тысячу двести франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него; невольно сравнивал своих сестер, которые казались ему в детстве такими красавицами, с парижскими женщинами, воплотившими лелеемый в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него; замечал, с какою мелочной бережливостью заботливо припрятывались самые дешевые продукты; пил вместе со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре; словом, множество обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятерило его желанье преуспеть в жизни и возбудило жажду выдвинуться. Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южанин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого человека, как только он очутится в открытом море, не зная, ни к какому берегу направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. Эжен первоначально собирался окунуться с головой в работу, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заметив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц; а могло ли их не оказаться у молодого человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл в нем подкреплялись изяществом осанки и какой-то нервической красой, на которую так падки женщины? Эти мысли осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где он в былое время так весело прогуливался с сестрами, теперь замечавшими в нем очень большую перемену. Его тетка г-жа де Марсийяк была когда-то при дворе и завела знакомства в верхах аристократического мира. Среди воспоминаний тетки, которыми она прежде так часто и так заманчиво делилась с ним, юных честолюбец вдруг усмотрел исходные позиции для своих побед в обществе, не менее важных, чем его успехи в Школе правоведения; он расспросил ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Тряхнув ветви генеалогического дерева, старая дама решила, что среди эгоистического племени богатых родственников, изо всех родных, способных сослужить службу ее племяннику, виконтесса де Босеан, пожалуй, окажется наиболее отзывчивой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном стиле и, передав его Эжену, сказала, что коль скоро он преуспеет у виконтессы, та пособит ему обрести вновь и других родственников. Спустя несколько дней по своем прибытии в Париж Растиньяк переслал тетушкино письмо г-же де Босеан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на другой день.
Таково было положение дел в семейном пансионе к концу ноября 1819 года. Получив ответ на письмо, Эжен побывал на балу у г-жи де Босеан и пришел домой часа в два ночи. Чтобы нагнать потерянный вечер, студент еще во время танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде блеска светской жизни, он был готов впервые провести бессонную ночь в тиши своего квартала. В этот день он не обедал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать, что он вернется только на рассвете, как и случалось, когда он приходил с балов в Одеоне или вечеров в Прадо,[24] забрызгав грязью шелковые чулки и стоптав бальные туфли. Кристоф, прежде чем запереть дверь на засов, выглянул на улицу. Как раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шума взойти к себе наверх в сопровождении Кристофа, шумевшего довольно основательно. Эжен разделся, обулся в ночные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф стуком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шумные приготовления студента.
Прежде чем углубиться в юридические книги, Эжен несколько минут сидел задумавшись. Виконтесса де Босеан, с которой он только что свел знакомство, была одной из цариц парижского большого света, а дом ее слыл самым приятным в Сен-Жерменском предместье. Да и по имени и по богатству она принадлежала к верхам аристократического мира. Благодаря своей тетке де Марсийяк бедный студент был хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много значила такая благосклонность: быть принятым в этих раззолоченных гостиных равнялось грамоте на высшее дворянство. Показав себя в самом замкнутом обществе, он завоевал право на вход куда угодно. Ослепленный таким блестящим собранием, Эжен едва успел обменяться лишь несколькими фразами с г-жой де Босеан и удовольствовался тем, что среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил для себя одну из тех, в которых юноши сразу же должны влюбляться. Высокая, хорошо сложенная графиня Анастази де Ресто славилась на весь Париж красотой своего стана. Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь, – женщину, которую маркиз де Ронкероль звал «чистокровной лошадью». Нервная утонченность не портила ничем ее красоты: все формы ее отличались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излишней толщине. «Чистокровная лошадь», «породистая женщина» – такие выражения стали вытеснять «небесных ангелов», «оссиановские лица»[25] – всю старую любовную мифологию, отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ресто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе два танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе.