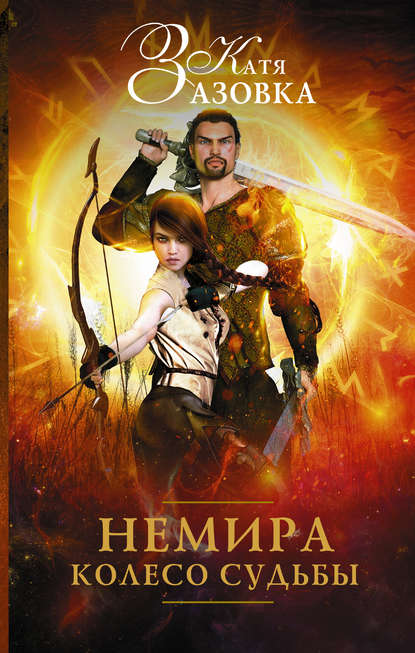Полная версия
Ученица чародея

Галина Манукян
Ученица чародея
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Манукян Г., 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Глава 1
Пеклó, как в июле. Жар, казалось, шёл и от стен домов, что теснились вдоль улицы, и от неровной брусчатки, по которой майский ветер гонял солому. На солнечной стороне рю де Шарни виноградные лозы, цепко хватаясь усиками за изъеденный временем камень, оплетали редкие оконца строений. В тени, на домах напротив, разросся плющ, пряча фасады под тёмно-зелёными, остроконечными листьями.
– Далеко нам ещё? – обернулась я к тётушке Мони́к, красной от подъёма на холм.
Та перевела дух и кивнула.
– Пришли уже.
И указала на большое здание, стоявшее чуть поодаль. Оно было явно богаче других. Над крышей высилась массивная бурая труба, торец дома увивала пышная, словно меховая оторочка, растительность. Я засмотрелась на резной балкончик на третьем этаже. Чудной!
Мы обогнули карету, стоящую у забора, обильно заросшего диким виноградом. Пара лошадей в упряжи вяло отгоняли хвостами мух. Возница в расшитой ливрее проводил нас мутным от зноя и скуки взглядом.
Отчего-то стало тревожно. С каждым шагом к дому лекаря тревога охватывала меня всё сильнее. Хотя, скажите, что могло пугать в красивых арочных окнах на цокольном этаже? Или в аккуратно подстриженных кустах у входа? Ничего.
В нише над морёной дубовой дверью я разглядела грубоватую чёрную статуэтку – всадника. Ноги онемели. Я остановилась.
– Что с тобой? Опять приступ? – забеспокоилась тётушка Моник.
– Нет.
Входная дверь распахнулась, и долговязый слуга, раскланиваясь, выпустил на улицу богато одетого старика с лицом жёлтым, точно пчелиный воск. Старик зыркнул на нас, задрал крючковатый нос и, опираясь на руку пажа, направился к карете. У меня тут же закололо в правом боку.
Из открытой двери повеяло холодом. Я тронула тётю за рукав:
– Не пойдём, а? Зачем тебе деньги тратить? Разве лишние? – И для пущей верности соврала: – У меня весь день ничегошеньки не болит. Правда-правда…
– Святые мощи! Гляди-ка, моя умная-разумная племянница боится лекарей, – хмыкнула тётя. – Расскажу дома, никто не поверит.
От смешливого голоса сразу стало легче. Я посмотрела на неё с благодарностью. Каштановые волосы прилипли к высокому лбу, прическа растрепалась, капельки пота стекали по вискам, но глаза Моник сияли задорно, будто вовсе не беда привела нас в соседний город. Моя миловидная тетушка была всего на десять лет старше меня.
– Давай-давай, – подтолкнула она меня к ступеням крыльца. – Ежели мы зря добирались в такую даль, я сгрызу тебя быстрее, чем хвороба. Уж поверь.
Слуга поприветствовал Моник, как старую знакомую, и пригласил нас войти. Я переступила порог. И тотчас не чувство – уверенность: я пришла сюда надолго – опутала меня и смутила. Святая Клотильда! Как же холодно! Я задрожала.
Из полумрака вынырнула служанка в сером платье, белом переднике, со странным колпаком на голове. Она смерила нас взглядом так, будто взвесила каждый су в кошельке тётушки, и, чуть скривившись, объявила:
– Мсьё Годфруа больше не принимает.
– Доброго дня, мадам Женевьева, – засуетилась тётя. – Скажите хозяину, будьте любезны, что Моник Дюпон из Сан-Приеста пришла – та, что травы ему собирала. Мсьё говорил, в любой день примет… Вон меня даже привратник ваш, Себастьен, узнал…
Служанка скрылась, но ненадолго. Через пару минут мы следовали за ней вглубь дома – к холоду, будто уходили из лета в зиму. Шаги отдавались мерным постукиванием деревянных сабо по присыпанным соломой каменным плитам. Сердце требовало: бежать-бежать прочь, но разум заставлял смиренно ступать по коридору.
Тётушка столько хлопотала, чтобы привезти меня к лекарю за добрый десяток лье, не пожалела сбережений, детей малых оставила, а я… Нельзя быть неблагодарной! Люди недаром говорят: лучшего врачевателя не сыскать, мсьё Годфруа де умирающих с постели поднимает, чудеса творит. Но есть и другие слухи: мол, колдун он и чернокнижник. А вдруг, правда?
Я тяжело вздохнула и незаметно для всех перекрестилась.
Служанка впустила нас в просторную комнату. Запахло чем-то кислым и горьким, травами и снадобьями. Я шагнула вперёд и обмерла.
Ах, Святая Дева! Никогда не видела столько книг! Даже в монастыре… А тут и стен не разглядеть – всё сплошь покрыто фолиантами. По корешкам видно: и старыми, и новыми. Были тут и бесценные книги, в переплетах с золотым тиснением, и простые, в грубо выделанной коже, и свитки, перевязанные лентами, и пергамент у окна. Даже на столе книги лежали тут и там неровными стопками.
Мои глаза встретились с глазами мсьё Годфруа, чёрными, умными.
– Юной мадемуазель нравятся книги? Любопытно, – отметил он.
Среднего роста, лекарь был коренаст и некрасив. Бурые усы топорщились над верхней губой. По красноте лица и несвежей коже всякий сказал бы, что мсьё попивает доброе вино не только за обедом. Однако глаза его были слишком живы, пронзительны – пьянице не сохранить такой ясности взгляда.
Святые угодники! Мсьё Годфруа не просто смотрел, он как лучом светил, будто бы видел глубже – намного глубже, чем обычный смертный. А рассмотреть он, похоже, хотел всё, что у меня внутри и даже за спиной. Оробев совершенно, я поздоровалась и сделала реверанс, как подобает воспитанной девушке. Тётя что-то начала говорить.
Лекарь улыбнулся с неожиданным радушием и обратился к ней:
– Ах, Моник, ну, чертовка! Почему не говорила, что прячешь такую красавицу?
– Да разве ж прячу, мсьё? – всплеснула руками тётя. – Наоборот, привела. Вот она, племянница моя, Абели Мадлен Тома. На вас только и надежда…
– Располагайтесь, дамы, рассказывайте, чем обязан такому приятному визиту.
Голос лекаря был мягок и вкрадчив, как у кота, который выпрашивает у кухарки мясо да точно знает, что получит его. А оттого я ещё сильнее насторожилась.
– Девочка наша в обмороки падает, голова у неё болит, порой так, что глаз открыть не может, – затараторила Моник. – Мало того! Если хворому человеку случится быть рядом, она на себя всё берёт. Вон у мужа моего поясницу заломило, и у Абели, как села за один стол отобедать, тоже. У старухи Мадлон, вниз по улице – грудная жаба. И наша Абели задыхаться начинает, если подле окажется… Причем хворым-то легче делается: кому насовсем, кому на малость. А ей хоть на улицу не выходи. Всё хуже и хуже становится…
Тётя рассказывала и вздыхала. А я чувствовала себя неловко, хотя так оно и было на самом деле. Не обмолвилась она только о том, что люди, прослышав, что я боли чужие забираю, чуть ли не каждый день стали приходить под окно, а на улице за руки хватать и за платье дёргать. Потому я на улицу уже боялась нос высунуть, и всё чаще случались дни, когда я совсем не вставала с постели – чужие боли одолевали. Проку от меня в хозяйстве было мало: иногда я с детьми Моник возилась по мере возможности и по дому помогала, как отлежусь.
– Любопытный случай. И давно?
– Три месяца уже. Ей семнадцать стукнуло, и будто проклял кто или глаз чёрный наложил. Помогите, мсьё. Я отблагодарю, вы знаете.
– А живот у мадемуазель не болит? – спросил у меня мсьё Годфруа. – Вот тут, где утерус?
Он показал пальцем чуть ниже талии.
Щёки мои разгорелись, и я опустила глаза. Боже, как стыдно! О моём животе говорит посторонний мужчина…
– Да с чего бы! – всплеснула руками тётя. – Она у нас еще девица.
– Одно другому не мешает, – с хитрым прищуром ответил лекарь. – Так как, Абели? Болит?
Я отрицательно помахала головой.
– А сны видишь?
– Всегда.
– И сбываются?
– Бывает.
Он придвинулся ближе, изучая с неподдельным интересом.
– Скажи, Абели, вам сейчас старик встретился, ничего не почувствовала?
– Почему же? Будто иглами закололо, – я дотронулась до правого бока. – Здесь.
– Поразительно! У того ведь больная печень. А сейчас, милая Абели, сейчас что ты чувствуешь? Болит что-то?
– Зябко тут очень.
Тётушка с удивлением вскинула на меня глаза:
– Как же зябко? Жарищу ведь в окно несёт, словно черти двери в ад притворить забыли.
– Зябко, – упрямо ответила я.
– Ляг на кушетку, – велел он.
Я подчинилась.
Лекарь обхватил мою кисть пальцами и принялся ими надавливать поочередно, будто играл на дудочке. Закрыл глаза. Прислушался.
Мягкие у него были руки – как у женщины. Только тепла не давали, но и не забирали, словно ненастоящие. Или моя кожа не чувствовала, как прежде. Наконец, он сомкнул все пальцы на моём запястье, шепнул:
– Не бойся.
И вдруг тонкая игла легко, будто комар, вонзилась мне прямо над переносицей, между бровей. Я ойкнула, но возмущаться не захотелось, ведь несмотря на холод, мне стало хорошо, спокойно, словно не волновалась тётушка, словно за дверью не сидела служанка, у которой ныл локоть, что стукнула пару секунд назад. Словно не шелестели, как ветер, неясные тени в подвале. И в наступившей прохладной тишине, без чужих болей и эмоций, наконец моя голова перестала болеть.
Глава 2
Из забытья меня выдернул вкрадчивый голос мсьё Годфруа:
– Так что делать будем?
– Что скажете, мсьё, – живо ответила Моник. – Вот прям-таки что скажете, то и будем. Потому как жизни всё равно нету. Ни нам, ни ей.
– А если скажу её срочно замуж выдать? – хмыкнул лекарь.
– Да я сама хотела: не берут, – принялась сокрушаться тётушка.
– Что так? Девушка красивая.
И Моник тут же выложила всё как духу. В который раз… Ох, лучше б я ещё спала!
* * *Так случилось, что я сирота при живых родителях. Мой папá – наследник старинного графского рода де Клермон-Тоннэр, встретил маман, когда той едва стукнуло восемнадцать, и был очарован. Зеленоглазой красавице польстило внимание дворянина, куда более богатого и куртуазного, нежели грубоватый муж-лавочник. Не задумываясь ни секунды, она укатила из крошечного городка с графом в Париж.
Там я и родилась в морозную февральскую ночь в доме на улице Ботрейи. Как говорила маман, на роскошной кровати под расшитым восточным балдахином в окружении целого сборища повитух. Балдахин этот я помню до сих пор: всё детство мне хотелось добраться до золочёной птицы на самом верху и дернуть её за хвост…
Граф потакал всем прихотям маман, нанял няню, горничную, кухарку, как настоящей госпоже, и даже пригласил к ней учителя танцев и манер. Мари Тома быстро и думать забыла о черни – своих родственниках на юге Франции, разве только младшую сестру Моник время от времени баловала вышедшими из парижской моды платьями и надоевшими шляпками.
Папа́ приходил к нам, даже когда его вынудили жениться во благо семьи на какой-то шл… – маман называла её так, что отец краснел и велел выбирать слова. Но Мари Тома не унималась и закатывала истерики, швыряясь в графа дорогой посудой. Нянька Нанон торопилась увести меня подальше, но лязг, звон и брань, какой позавидовали бы возницы и бродяги, слышались по всему особняку.
Граф терпел. А однажды узнал, что маман встречалась с дюжим мушкетером – весёлым усатым дяденькой, который с гиканьем возил меня по комнатам на спине, как боевой конь, а потом умыкал маман в комнату с балдахином и играл уже там с ней. Тоже с гиканьем. Папа́ впервые позволил себе поднять голос на маман, а затем отправил меня на воспитание в монастырь. Тогда мне было девять.
Пять скучных лет я провела взаперти, за неприступными стенами аббатства Сен-Сюльпис, где единственным развлечением для меня стали книги. Я с усердием посещала уроки домоводства, мечтая, что однажды стану хозяйкой небольшого уютного дома и посвящу себя будущему супругу и пятерым розовощеким деткам. Уж точно, как маман, фривольничать не стану…
В монастыре воспитывались девочки из хороших семей. Обо мне они то и дело перешептывались и придумывали небылицы. От невозможности рассказать все как есть, от того, что я не езжу никуда на праздники, не могу похвастаться подвенечным платьем прапрабабки и галереей портретов дедушек до десятого колена в родовом замке, я чувствовала себя униженной. Но сдаваться не собиралась: чтобы эти высокомерные девицы вкусили унижение хотя бы отчасти, я пыталась быть лучше них во всех предметах и в прилежании.
Честно признаюсь, жажду к шалостям я всё же испытывала, но скрывала проделки так умело, что это доставляло мне тайную радость. К примеру, когда тощую Франсуазу де Бовиль поставили на горох за разрисованную углём стену, я намалевала под кроватью цветок. Тоже углём. Да ещё и фигуру мужчины со шпагой впридачу. Он был похож на мушкетёра маман. Пусть моё творчество никто и не видел, одна мысль о том, что я сделала это и не была наказана так же, как заносчивая дочь баронета, придавала мне силы и чувство превосходства.
Маман навещала меня редко, а от папа приходили лишь записки через посыльного и деньги на моё содержание. Из родственников я только раз видела свою тетю Моник. Она была хохотушкой, и мне понравилась.
Монастырская жизнь окончилась так же, как и началась – внезапно. Однажды ночью меня подняли с постели и повели в приемные покои аббатисы. Там стояла маман в тёмном муаровом платье со шлейфом, как всегда одетая по последней моде и чрезвычайно красивая. Маман вдруг принялась целовать, обнимать меня и обливать слезами мою ночную рубашку, причитая, как тяжела её судьба и что она слабая женщина. Но вскоре маман устала от собственного представления и молвила совершенно спокойно:
– Абели, ты уже не дитя. Ты выросла и вполне справишься со своей жизнью сама.
– Что случилось, маман? – непонимающе спросила я.
– Твоего отца арестовали за вольнодумства. Я всегда знала, что он плохо кончит, – вздохнула маман и картинно отвернулась к окну – в свете лампад перья на её шляпе всколыхнулись, и жуткие тени пронеслись по стене. Маман продолжила:
– Имущество графа конфисковано, король в гневе. Всех, кто с семейством де Клермон-Тоннэр связан, сажают в Бастилию. Заговорщиков ищут. Так что, детка, помни: ты была, есть и будешь Абели Мадлен Тома из Сан-Приеста. Лучше иметь в родне ремесленников, чем благородных висельников. Что смогли, мы тебе дали. А из монастыря тебе лучше уехать.
Она протянула мне кожаный кошель.
– А вы, маман?
– Господин де Лафруа, мой друг, уезжает в Новую Англию. Он звал меня с собой.
Маман ещё раз обняла меня, похлопала по щеке и ушла. Больше я её не видела.
* * *Мне повезло встретить в гостинице пожилую даму. Та путешествовала из Парижа в Лион. Благодаря её доброте, я добралась до Сан-Приеста целой и невредимой, не попав в лапы разбойников и прохиндеев.
Бабушка с дедушкой были огорошены, увидев впервые на пороге великовозрастную внучку с немудрёным скарбом. Меня встретили словами: «Вот дерьмо! Да это ж наша шалопутная Мари, только помоложе…» За этим последовал поток бранных слов, о значении которых я могла лишь догадываться.
Сложно было представить, что эти жилистые грубые старики с лицами, изрезанными глубокими морщинами, будто ножом краснодеревщика, состоят со мной в каком бы то ни было родстве. Их узкий каменный дом в три этажа пропах мочой, плесенью, прогорклым маслом и ещё чем-то отвратительным. Здесь царили грязь и бедность, а свет почти не попадал в крохотные оконца, затянутые бычьим пузырем. Мне показалось, что я попала в ад.
Благо, на следующее утро пришла тётя Моник и забрала меня к себе. И всё было бы сносно, если бы не обманутый супруг маман, злой плешивый лавочник Ренье. Он жил на соседней улице и торговал домашней утварью в большой лавке. Как сказала Моник, за эти годы он нажил немало и вроде бы перестал поминать грязным словом Мари. Но стоило мне появиться, лавочника словно черти попутали – он то и дело кричал на всю округу, что дочь потаскухи Мари – такая же, как её мать, расписывая во всех красках пороки моей достопочтенной родительницы. Ренье придумывал козни, сплетни и прочие гадости, будто единственной целью его лавочной душонки было испортить мне жизнь и отомстить таким образом маман. Моник заступалась и как-то даже дала лавочнику по уху тряпкой.
Увы, именно его угораздило прознать про папеньку, которого король решил было помиловать, но едва отпустив, снова засадил за решетку. Похоже, папа́ опять что-то сказал нелицеприятное для Его Величества, а возможно, даже написал пасквиль. Я точно и не знаю. Но лавочник Ренье быстрее королевского глашатая раструбил на весь квартал, что де дочь вольнодумца и смутьяна тоже отправят в тюрьму, а уж подавно и того, кто на ней женится.
Люди и так на меня косились и судачили всякое, но последние новости и странная болезнь перевесили чашу весов. И ко мне, рожденной во грехе бесприданнице, воспитанной на «карамелях», читающей в книжках один Бог знает что, может, ведьмовские заговоры, к дочери приговорённого к казни графа, по-видимому, проклятой всеми святыми, стали относиться как угодно, но только не как к девушке на выданье.
* * *– Вот и не берут, – завершила рассказ Моник.
Она поведала, конечно, не всё, как я вам, но в ответ лекарь фыркнул в усы:
– Да уж, занятная история, – и обратился ко мне: – Абели, я вижу, ты не спишь.
Я открыла глаза и села на кушетке, чувствуя себя ещё глупее. Мои щёки разгорелись.
– Да, мсьё.
– Тебе стало легче от моей иголки?
– Да, мсьё. Голова не болит. Я даже заснула.
– Вот и чудненько, – улыбнулся мсьё Годфруа и потёр руки. – От одного раза тебе легче не станет. Надолго, по крайней мере. Возможно, я и не смогу тебе помочь, хотя постараюсь. Но с твоей хворью нужно разобраться, на это уйдёт время – недели, месяц, может, и пару…
– Ах, мсьё, – вздохнула Моник, – боюсь, у меня не хватит денег платить вам так долго. А нет ли какого снадобья, чтобы сразу раз и всё?
– Только если яду, – хмыкнул мсьё Годфруа и уже серьёзно добавил: – Нет, Моник, увы. Но оставлять так нельзя. Боюсь, Абели грозит смерть, если пустить на самотёк.
– Что же нам делать, мсьё?
Лекарь прищурился и посмотрел на меня внимательно.
– Учитывая обстоятельства, думаю, вам придется по вкусу моё предложение. Мне как раз нужна помощница. Точнее, я искал помощника – молодого человека, который записывал бы рецепты и посещения больных, потому как не ожидал найти грамотных среди девушек. Вы, Абели, могли бы работать у меня, а я буду не только лечить и исследовать ваш особенный недуг, но и платить вам, скажем, 2 ливра в неделю. О жилье вам заботиться не стоит – как раз освободилась комната на мансарде, вполне удобная. Тут же сможете и столоваться.
«Два ливра! Это же целое состояние!» – подумала я радостно, но вслух лишь скромно спросила:
– Разве это будет удобно?
– Ещё бы! – воскликнула Моник, заёрзав от нетерпения.
– Можно ли мне подумать, сударь? – всё же спросила я.
– Как угодно, – пожал плечами мсьё Годфруа.
– Что тут думать?! Что тут думать?! Я привезу вещи Абели в Перуж. Завтра же, – забормотала восхищённо тётя.
Предчувствия меня не обманули. Может быть, к лучшему…
Я вздохнула.
– Пусть будет по-вашему.
«Здравствуй, мой новый холодный дом».
Стоило мне это подумать, как сквозь щели в каменных плитах просочился из подвала воздух, потянуло сыростью и мертвечиной. Я вздрогнула и хотела было отказаться, но тут же со сквозняком хлопнули ставни, влетел в комнату жаркий ветер, весело растрепал мои волосы и унёс куда-то под яблони в сад подвальную мерзость. Сердце кольнуло больно в груди, затрепетало и притихло, как испуганный воробей.
Глава 3
Моник, наконец, расцепила прощальные объятия и с сияющим лицом сообщила:
– Поживёшь тут месяцок-другой, исцелишься. А там мсьё Годфруа и не захочет тебя отпускать. Ведь ты у меня такая умница, только старайся. Нам, конечно, будет тебя не хватать, но…
«…лишний рот и заботы ни к чему», – мысленно закончила я и вслух с улыбкой произнесла:
– Не волнуйся. Всё будет хорошо.
Моник ушла. Поспешность, с которой тётя ринулась за моими пожитками, несколько покоробила, хотя мне ли привыкать?
Я осталась топтаться в нерешительности у кабинета мсьё Годфруа. Обитые лионским бархатом кресла и эбеновый столик попирали изогнутыми золочёными ножками простейший каменный пол, на котором тут и там желтела солома. Как в обычном деревенском доме! Смахнуть бы её метлой. Я обвела комнату глазами. Грубой ширме, что торчала в углу, тоже никак не пристало стоять рядом с мебелью, которой место во дворце…
Или в доме нет хозяйки, или у той отвратительный вкус.
Моё внимание привлек гобелен на стене. На нём из куцых зелёных кустиков выходила абсолютно голая румяная девица, распутная и шальная. Такую картину уж точно подобало повесить в увеселительном доме, а не там, где бывают почтенные люди.
– Занятная вещица, не правда ли? – оторвал меня от лицезрения непотребства негромкий голос мсьё Годфруа.
Пока я решала, как высказаться подипломатичнее, лекарь меня опередил.
– Многие называют её непристойной. Но лишь до того, как узнают, что гобелен – подарок самого герцога Савойского. Секундой позже гобелен уже именуют занятным. А наш кюре даже усмотрел в нём эдемские мотивы.
– Вы знакомы с герцогом? – изумилась я совершенно искренне.
– О, да. Хороший врач вхож в любые дома, – не без удовольствия заметил мсьё Годфруа. – Тебе, наверное, неизвестно, милая Абели, что Его Высочество вместе с семьёй предпочитает проводить лето здесь, в Перужском замке, нежели в родной Савойе. Говорят, и климат здесь мягче, и места красивее. Так что ты попала сюда в самое удачное время.
«Вряд ли присутствие герцога в городе украсит моё существование, разве только устроят праздник и будут раздавать бесплатные пироги», – подумала я, продолжая любезно улыбаться и понимающе кивать.
Из коридора показалась всё та же неприветливая служанка в сером платье. Мсьё Годфруа подозвал её жестом.
– Женевьева, познакомься, это мадемуазель Абели, моя новая помощница. Покажи ей дом, сад, лечебные покои.
– А мадемуазель будет…
– Жить здесь. В комнате на мансарде.
Лошадиное лицо служанки вытянулось в недоумении, но она быстро взяла себя в руки.
– Как скажете, мсьё.
– Милая Абели, всё, что тебе потребуется, проси у Женевьевы, она поможет. Да, Женевьева?
Та лишь кивнула, доставая связку ключей из кармана передника.
– Благодарю, мсьё Годфруа, – поклонилась я.
– Осваивайся. Утром введу тебя в курс дела.
Мсьё Годфруа раскланялся и скрылся в дверях своего кабинета.
«Замечательный человек, этот лекарь. Неужели мне, наконец, повезло?» – не могла поверить я, следуя за высокой и суровой Женевьевой. У той, кстати, перестал болеть локоть или я перестала это чувствовать. Ах, волшебная иголка! Моё сердце переполнила благодарность к доктору.
– Здесь лечебные покои для господ, – толкнула соседнюю дверь служанка и пропустила меня в просторную комнату с четырьмя массивными кушетками. Между ними стояли одинаковые чёрные ширмы, затянутые расписным шёлком с золотым орнаментом.
Мда, монастырский госпиталь это не напоминало… Неужели богатые горожане не возражают против процедур в компании? Что за странная прихоть!
Женевьева косилась недобро, вовсе не собираясь отвечать на мои улыбки. Ничего, встречались и посварливей! Ей назло я улыбнулась самой милой из имевшихся в моём арсенале улыбок, и мы пошли дальше.
Через арку, заменявшую дверной проём, я успела разглядеть только тяжёлые синие шторы и громадный камин.
– Столовая для господ, – махнула ключами служанка, – на кухню пройти можно тама, под лестницей и прямо, не промахнётесь. А вона выход в сад, гуляйте пока.
Похоже, Женевьева не собиралась провожать меня дальше.
– А вы не подскажете, где моя комната? Я была бы вам очень благодарна.
Служанка фыркнула и повела меня по широкой лестнице вверх. На втором этаже в лицо внезапно ударило холодом, словно Женевьева окатила меня ведром мёрзлой воды, сказав: «Тут покои господина». Я зажмурилась от неожиданности, поперхнулась и закашлялась, непроизвольно обхватив себя руками. Холод был дрожащим, зыбким, почти материальным. Казалось, зачерпни ладошкой и выловишь из воздуха колкое ледяное крошево.
Когда я открыла глаза, служанка смотрела на меня, как на сумасшедшую.
– Не было заботы… – буркнула она и протянула ключик на розовой тесьме. – Ещё этаж вверх, зайдёте в узкий проход и по винтовой лестнице. Там только ваша комната.
– Благодарю, Женевьева, – пробормотала я, пытаясь не дрожать от холода. – Н-надеюсь, мы подружимся.
Ничего не ответив, служанка поторопилась обратно, а я, стиснув в пальцах ключ, что было мочи припустила вверх по ступеням. Словами не передать моё облегчение, когда холод остался позади.
Я не стала сразу искать проход к винтовой лестнице, а уступила своему любопытству и отправилась осматривать третий этаж. Жилые комнаты пропитывало успокаивающее тепло, тут витал приятный, сладковатый запах, какой я привыкла улавливать от малышей Моник.