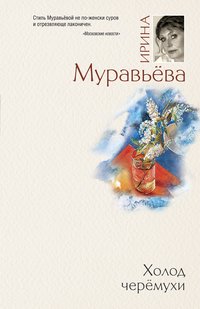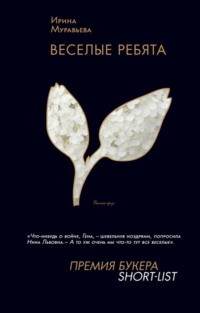Полная версия
Я вас люблю
Теперь мамы не было больше, а он стал солдатом, стал воином и пошел защищать Отечество. Барышня, похожая на балерину Клео де Мерод, портреты которой украшали витрины дамских магазинов, почти не тревожила его больше, и даже если бы она сейчас сидела на коленях у его отца и целовала (Василия передергивало от отвращения!) отцовские впалые щеки, до этого воину не было дела.
Под легким, светло-бирюзовым внутри быстро наступающего вечера дождем он подошел к бараку, где жили окопницы, и заглянул внутрь. В бараке, несмотря на растопленную печь, было еще холодно, воздух, видимо, не успел прогреться. На грубо сколоченном столе горела керосиновая лампа, освещая несколько крупно порезанных кусков серого от соли хлеба и чугунок, завернутый в большой деревенский платок. Рядом с печкой, на топчане, накрытая таким же платком, лежала женщина. Из-под платка торчали маленькие ноги в пестрых шерстяных носках. Василий испуганно кашлянул. Женщина приподнялась, и он увидел совсем молодое, черноглазое и ярко разрумянившееся от сна лицо. Черных волос было так много, что они накрыли не только ее голые плечи, но и грудь, быстро приподнявшуюся и задышавшую под сорочкой.
– Чего тебе? – хриплым, непроснувшимся голосом спросила она. – Иди, пока цел!
Но по ее тону, а больше всего по любопытно и лукаво заблестевшим глазам он догадался, что она не только не прогоняет его, а, напротив, радуется ему, и хитрая улыбка, появившаяся на ее румяных губах, пока она говорила, подтверждали это.
– А ты что, одна? – волнуясь, спросил он.
– А как же? Одна. Две ночи копала, сказали: поспи. Я печь-то зажгла, а сама задремала. Картошки вон им напекла. Поутру придут, так голодные будут…
Она подняла с пола упавший платок и, не сводя с Василия своих лукаво и очень ярко блестевших глаз, туго завернулась в него. Василий близко подошел к топчану.
– Чего гуляешь по ночам? – засмеялась она. – Прошпектов тут нет для гулянок!
– Зовут тебя как? – с заминкой спросил он.
– Ариной зовут, – ответила она и вдруг так сильно закусила губу, что выступила вспухшая полоска. – Ты дверь-то прихлопни!
Он прихлопнул дверь, набросил крючок задрожавшими руками.
– Замерз? – деловито спросила она.
Василий кивнул.
– Ну, что с тобой делать? – Она, посмеиваясь и словно недоумевая, покачала своей растрепанной головой. – Ложись, раз замерз.
Сначала ему показалось, что он ослышался, но Арина, вздохнув, освободила ему место на топчане рядом с собой и исподлобья посмотрела на него ставшими вдруг ласковыми и успокаивающими глазами.
– Ложись, покалякаем.
Дрожа, он улегся рядом с ней и неловко закинул руку ей за голову, сразу же начав задыхаться от запаха ее волос и влажной горячей шеи, шелковисто скользнувшей по его руке.
– Молоденький ты! – зашептала Арина. – Годков восемнадцать-то будет?
– А как же! – сквозь дрожь бормотал он. – Постарше тебя…
– Ну вот! Скажешь тоже! – И она вдруг крепко поцеловала его в переносицу пухлыми горячими губами. – Я уж и замужем побывала, и дитё у меня в деревне осталось, а ты говоришь, что постарше!
– Что я говорю? – Он тянулся к ней всем телом, но что-то как будто мешало ему.
Нужно было раздеться самому и, главное, скорее снять с нее эту большую горячую сорочку, но руки его оказались заняты: обеими ладонями он держал ее пышно-черноволосую голову и не знал, что делать с ней, как будто боясь, что, как только он выпустит из рук эту голову, Арина исчезнет. Она вывернулась и прижалась лбом к его кадыку. Он услышал ее тихий, влажный щекочущий смех. Он вдруг перестал дрожать, и всё, что случилось, случилось внезапно, но так, как положено, даже не стыдно. Арина гладила его по животу горячей тяжелой ладонью, и от этого ему больше всего на свете захотелось спать.
– Поспи, золотой мой! – тягуче пробормотала она и вдруг, как кошка, лизнула его в уголок закрытого левого глаза. – Поспи на дорожку.
– Ты завтра здесь будешь? – спросил он спустя двадцать минут, одевшись и стоя уже в дверях.
– Иди, иди! – не отвечая на его вопрос, засмеялась она. – Завтра я работаю всю ночь, а днем тут нельзя, бабы будут.
– Так как же тогда? – испугался он.
– А так. Сговоримся. Ты мне сахарку принесешь? А то не с чем чаю попить…
Он покраснел и радостно закивал головой.
– Тогда часов в восемь, в лесочке. За полем лесочек есть, видел, наверное?
Она быстро поцеловала его в щеку, вытолкнула из барака и захлопнула дверь. Он услышал, как ее ноги в шерстяных носках энергично простучали по крепко утоптанному земляному полу, потом шаги затихли: она, наверное, снова улеглась на топчан.
Василий закинул голову. Дождя больше не было, и редкие звезды, стыдясь, что им всё чаще приходится становиться свидетелями того, как людей убивают даже ночью, выглядывали из-под облаков и наивными глазами следили за тем, как Василий – отныне не мальчик, не отрок, но воин – идет по земле и, свободный от страха, от мыслей про маму и мамину смерть, вдыхает в себя запах мощного ветра.
Четвертое письмо Владимира Шатерникова:
Такое количество раненых поступает с фронта, что нас, выздоравливающих, перевели в другой госпиталь, пониже рангом. Мы шли через улицу в своих желтых халатах из главного здания в небольшой деревянный барак. Прошли мимо часового у ворот, который посмотрел на нас, как мне показалось, с какой-то брезгливой жалостью. Палата на сорок коек, сбитые матрасы, пахнет соломой, накурено, наплевано. Через пять минут нас уже нещадно поедали клопы, жарко. На койке у окна кто-то вскрикивает всё время пронзительным и бессмысленным голосом. В таких бараках война, как я понял, совсем непопулярна. Солдаты так прямо и говорят: «Нам всё равно, кому служить: немцу или Николаю. У немца, говорят, кормят лучше». Сказать по правде, этого я не ожидал. Офицерские разговоры тоже мрачные и безнадежные. Пехоты у нас нет. Пополнение с каждым разом всё хуже и хуже. Наши желторотые прапорщики шестинедельной выпечки совсем никуда не годятся. У них молоко на губах не обсохло, такие офицеры никогда не будут пользоваться у солдат авторитетом. Они умеют одно: героически погибать, но воевать хоть сколько-нибудь разумно они не в состоянии.
Очень нелестные отзывы услышал я и о сестрах милосердия, попавших на фронт, и о тех женщинах, которых набирают, чтобы рыть окопы. Да это и понятно: солдаты, конечно, изголодались, они уже себя не помнят. «Как увижу бабу, – сказал мне один солдат, – так и давай жеребцом ржать. Тут уж одно в башке: лишь бы не упустить».
Витебский губернатор издал приказ: не брать на работу беженок, потому что начинается настоящее разложение армии и взрыв венерических болезней. В районе расположения 3-го конного полка, особенно в местечке Новоселице, много австрийскоподданных проституток, которые скрываются под видом сестер милосердия и полковых дам в трауре. На них идет целая «охота». Русские солдаты и офицеры не считаются ни с классом, ни с возрастом. Случаются иногда и разные курьезы. Двое наших казаков стояли на квартире. Пока они там стояли, хозяйка родила без мужа. Староста пошел к командиру полка и сказал, что это они, то есть казаки, виноваты. Они говорят: «Да мы ни при чем! Мы на этой хате всего три недели стоим!» Но командир полка приказал им взять младенца с собой, и они его сейчас возят с одного места на другое и нянчатся с ним. Приспособили ему вместо люльки сундучок для перевозки канцелярии, младенец теперь там и спит: в сундучке на официальных документах. Смешно, Танечка, родная моя, смешно и грустно.
Вчера видел сон, который никак не выходит из памяти. Сначала мне всё казалось, что я лежу в каюте и на море поднялась буря. Потом буря немного утихла, я выбрался из каюты и поднялся наверх, на палубу. Там было много людей, которые, как я подумал сначала, спят в шезлонгах, прикрыв свои лица кто чем: кто шляпой, кто газовым шарфом. Я наклонился над одной из таких шляп и вдруг понял, что человек не дышит, он мертв, потом наклонился над другой – то же самое. Я обошел всю палубу – до сих пор чувствую, как сильно колотилось мое сердце, – отдергивая шарфы и сбрасывая шляпы, но живых среди этих людей не было. Вдруг я услышал какой-то хлюпающий звук, похожий на то, как кошка лакает из миски молоко. Оглянулся и увидел совсем маленькую девочку, которая сидела на корточках, прижимая к груди тарелку с чем-то красным, и жадно лакала из этой тарелки. Я спросил ее, что она пьет, и девочка ответила по-немецки, что пьет она клюквенный сок. Красные струйки текли у нее по лицу, капали на белый передник. Мне стало дурно, и, наверное, от этого я и проснулся. Весь день думаю, что может значить такой сон, и личико маленькой немки вижу перед глазами так ясно, как будто бы всё это вправду случилось.
* * *Закат, очень сильный, хотя и короткий, каким бывает только ранний зимний закат, несущий внезапную память о лете, прожег верхние окна домов и выкрасил малиново-синим костлявые ветки деревьев.
Великой княгине Елизавете Федоровне успели уже нашептать, что в народе болтают, якобы она, Елизавета Федоровна, лечит исключительно немецких военнопленных, будучи сама по крови немкой Алисой Луизой Дармштадской. Весь день Елизавета Федоровна была особенно грустна и сосредоточенна, не разжимала скорбно опущенных губ, тихо молилась над умирающими, делала перевязки живым и только совсем уже вечером вдруг сказала Тане, которая только что собрала в кучу засохшие кровью бинты и собиралась вынести их на заднее крыльцо, где стоял бак с дезинфицирующим раствором:
– Ах, боже мой, что они делают!
– Они? – не поняла Таня.
– Они, эти люди, – прошептала Елизавета Федоровна, резко побледнев под белой косынкой сестры милосердия, которая оставляла открытым ее сухой гладкий лоб с нахмурившимися бровями. – Ах, боже мой, что это будет! – И тут же спохватилась: – Идите, идите, пора отдыхать.
Таня глубоко вздохнула, не зная, что ответить, но что-то сильно насторожило ее в словах великой княгини, и по дороге домой – она шла пешком через всю Ордынку – думала о том, что Александр Сергеевич, встретившийся вчера случайно, может только еще больше запутать ее и без того непростую и безрадостную жизнь.
Дома было холодно, с дровами начались перебои, и няня в двух вязаных кофтах и платке ждала ее с чаем и ужином.
– Вот ведь и рядом с лесами живем, – пробормотала няня, – а дров нету! Говорят, ежели бы начальники во всё свой нос не совали, так дров бы хватало. Яиц по пятку дают, а целый поезд с яичками на станции стоит. Что он там стоит, когда разгрузить не разгружают? Совсем одурели!
В прихожей зазвонил телефон.
– Тебя, – сказала няня и укоризненно посмотрела на Таню из-под низко повязанного платка. – Уж раз позвонил, тебя не было.
– Кто?
– А мне не докладывал. Вежливый, умный: благодарствуйте, говорит, буду ей еще звонить. Беги! То-то ждешь не дождешься!
– Татьяна Антоновна? – сказал негромко Александр Сергеевич, и Таня почувствовала, как он усмехнулся одними губами. – Простите, что поздно. Я видел, как вы шли с работы, и, правду сказать, всё время шел за вами, но вы были такой невеселой, что я не решился побеспокоить. Сейчас вот не выдержал, впрочем…
– Не нужно звонить мне, – оглянувшись на няню, зашептала она. – Я объяснила вам вчера: у меня жених, Александр Сергеевич! Чего же вам еще?
– Таня! – Она увидела, что он уже улыбается страшной для нее улыбкой. – Ведь я не опасен нисколько. Я просто одинокий старый человек, жена умерла, сын воюет. Вы мне симпатичны, мне с вами легко. Что ж дурного, если мы посидим, пообедаем в каком-нибудь приличном месте, и я вам пожалуюсь на свои грустные обстоятельства?
– Хорошо, – убито согласилась Таня, чувствуя, что ухо с телефонной трубкой и прядь волос, прилипшая к ней, становятся мокрыми. – Я завтра попробую освободиться пораньше.
Отец пришел поздно.
– Немцев высылают, – сказал он. – Купцы, говорят, разъярились. Им-то патриотизм только на руку: раз бойкот немецким магазинам объявили, значит, русским магазинам одно раздолье! Слухи пошли, что немцы отравляют колодцы, пускают в них холерные бациллы. Бред какой-то. Так и до погромов недалеко.
– Папа, – Таня прижала к щекам ладони, – у этой… у мамы ведь немецкая фамилия! Они же ведь – Зандер!
Отец огорченно отвел глаза.
– Да, Зандер. Папаша ее мужа был немцем. Но обрусевшим, разумеется, православным. Сейчас это, впрочем, не так уж и важно.
Лицо отца приобрело знакомое Тане выражение: оно герметически закрылось изнутри, и только глаза, которые остались открытыми, беспокойно заблестели при упоминании о матери, словно в отцовской душе был спрятан какой-то находящийся в состоянии постоянной неустойчивости снаряд, с которым он так и не научился обращаться.
– Надеюсь, не дойдет до большой крови, – добавил он. – Хотя с этим диким народом… Иди, Таня, спать. Сама на ногах не стоишь…
В комнате было холодно, но она сбросила с себя одеяло, села на постели в ночной сорочке и, чувствуя себя так, как будто она вся нарывает, принялась думать. Владимир Шатерников был ее мужем, они соединились тогда, на берегу спящего пруда, так, как соединяются только муж и жена, и, если бы не война, у них уже мог бы родиться ребенок. Сейчас Шатерников далеко, в Галиции, и ранен. Она с жадностью читала его письма, но мучилась, что не понимает его. Его рассуждения о войне, о жизни пугали ее. Между строк она угадывала, что он и обращается-то словно не к ней, а к той девушке, которая существует в его воображении. Он был актером и привык, чтобы люди смотрели на него, слушали, что он говорит, и любили его. Теперь, когда не было сцены, сама его жизнь, даже болезнь и госпиталь, в котором он задыхался от запаха ран и видел столько крови и смерти, стали чем-то вроде огромного, раскрывшегося во всей силе театра, в котором он продолжал чувствовать себя на виду у других людей и обращаться к ним. Таня не могла объяснить, что это она вдруг угадала внутри его писем, но знала, что то, что она угадала, есть чистая правда. Он любил ее, но Танина роль в его жизни рисовалась ему чем-то грандиозным и тоже почти театральным, не имеющим ничего общего с ее простым нетерпеливым ожиданием. Чем больше времени проходило с их последней встречи и последнего горячего поцелуя, тем дальше от него становилась та девушка, которая действительно была ею, но и тем отчетливее вырисовывался образ той, которая с полуслова понимала его философские мысли, была тверда духом и ничего не боялась. Таня хотела, чтобы он писал ей просто о своей любви и неустанно ободрял ее, а получилось, что сама их любовь стала частью войны, и в конце концов от этой любви остался только страх, что Владимира убьют или что он вернется к ней таким же обрубком, которых она каждый день видела в госпитале. Запах гниющего тела преследовал ее даже на чистом хрустящем морозе, и по дороге домой она старалась очень глубоко дышать, потому что, когда очень глубоко, всей грудью дышишь, этот запах, которым, казалось, успело пропитаться всё: и небо, и снег, и мороз, и деревья – понемногу выветривается.
Александр Сергеевич был влюблен в нее, и так открыто влюблен, что всё, что он делал: смотрел, улыбался, задумывался, чертил по снегу носком ботинка, и особенно то, как он весело и настойчиво, понизив голос, сказал сегодня по телефону, что он «не опасен», – всё это раздражало, затягивало, отнимало силы, но тут же и прибавляло их, и она становилась другой. Теперь – при одной мысли об Александре Сергеевиче – Таня чувствовала, как много в ней крови, тяжелой, дрожащей, горячей и сильной, раскачивающей тело из стороны в сторону, шумящей в ушах, застилающей зрение…
К тому же она поняла, что наступили совсем другие времена и всех теперь могут убить. Перед глазами мелькал кудрявый мальчик Веденяпин, выскочивший на мороз из кондитерской. И Васю убьют. Егоможно убить.
«А раньше мы все простожили. И было очень хорошо, пока я не пошла в театр и не встретила его».
Ей вдруг стало казаться, что и война, и раны, которые она промывает и перевязывает, и общий озлобленный страх, и усталость – всё это началось не в августе, а гораздо раньше, и началось только оттого, что она встретила в театре Александра Сергеевича.
«У Волчаниновой убили одного брата, а другой вернулся слепым, и папа сегодня сказал, что мою мать могут выселить из Москвы, потому что у них немецкая фамилия. А няня сказала, что немцы отравляют в деревнях колодцы, и хотя она сама не верит этому, но люди, которые это говорят, не станут врать, и в городе скоро совсем не останется дров, а раненых только привозят, привозят…»
Истинная причина того, что всех теперь можно убить и всё так запуталось, была та, что Александр Сергеевич пошел провожать ее из театра и всю дорогу пожирал ее своими темными глазами, и плыл этот робкий, задумчивый снег, а она слушала, боясь не понять, сказать что-то не то, разочаровать его, и чуть не запрыгала от радости, когда он попросил ее прийти завтра в кондитерскую, где и случился самый что ни на есть безобразный скандал, и его жена, которая следила за ними, выскочила из дамской комнаты с криками и оскорбленьями. Потом были мама и Дина, вернувшиеся с заграничных курортов, и у нее чуть не разорвалось сердце, когда мама попыталась обнять ее своими чужими холодными руками. Но это не всё! Самое ужасное случилось потом, когда по дороге на курсы ее догнала жена Веденяпина и, отдувая вуалетку прыгающими губами, начала объяснять ей ужасные вещи про свою жизнь с Александром Сергеевичем. Про то, как она поднималась с постели наутро и вся была «липкой». О господи!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.