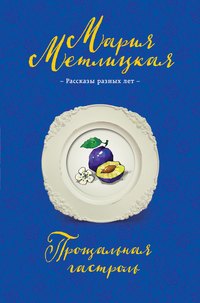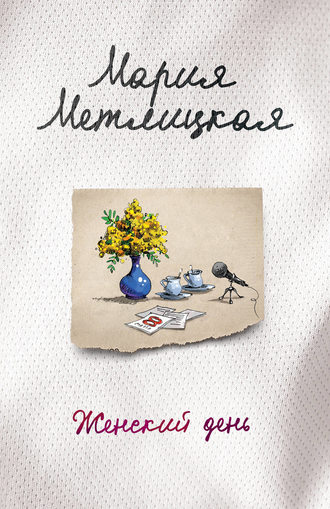
Полная версия
Женский день
Она вздохнула и принялась накрывать на стол. Обедали молча. Женя чувствовала, как начинает заводиться.
– Не интересно, как у меня прошло? – наконец спросила она.
Муж мотнул головой.
– Не-а. А что? Что-нибудь необычное?
Она покачала головой.
– Все обычное. Просто мне непонятно, почему тебя не интересует ничего из моей жизни?
– Это – точно не интересует, – подтвердил муж, – ты же знаешь… как я ко всему этому… отношусь.
– Знаю! – вдруг закипела она. – Вот именно – знаю! Как ты относишься ко всему этому. И к тому, что я делаю, – в том числе.
Он аккуратно положил ложку на стол, встал из-за стола и сказал: «Спасибо».
– А второе? – жалобно спросила Женя.
У двери он обернулся.
– Сыт. Спасибо.
Она отодвинула тарелку с недоеденным супом и заплакала. Понятно: сказалось недовольство, усталость, раздражение – все, чем обрушился на нее сегодняшний день. И все же… Не стоило начинать. Не стоило! Когда и так… Когда и так все так плохо, что хочется… застрелиться.
И все-таки вечный вопрос. А почему им можно, а нам – нельзя? Уставать, раздражаться, проявлять характер и недовольство? Ходить с перекошенной физиономией, демонстрировать отрешенность от семьи и проблем, не желать их, эти проблемы, решать? Все время делать одолжение – одно сплошное одолжение. Пообедал – одолжение. Поужинал – тоже. Спросил о чем-то – тем более. Снизошел, смилостивился, уделил.
А она… Она должна! Всем и всегда. Ему, детям, маме. Все и сразу – попробуй не отреагируй на чью-нибудь просьбу. Попробуй проигнорируй. Да вы что? Мир перевернется! Не среагировать тотчас, сразу, без малейшего промедления. Не бросится решать, разруливать, утешать. Платить, наконец. Последнее – в прямом смысле слова, заметьте! А чтобы все это было, еще ведь, между прочим, нужно и заработать! А все они – мать, дочери, муж – относятся к ней… ну, как бы это… помягче? В смысле, к тому, чем она занимается…
Да вот как относятся, если по чесноку, – как к блажи, к прихоти, к странному хобби. Развлекается тетка в предклимаксном возрасте, занимает себя – ну и славно!
И все-таки зря. Тот хрупкий, ненадежный мир, который едва удается ей удержать, так сложно, как балансировать на канате, без лонжи, держа в руках опахало, сегодня своими руками сознательно и добровольно она порушила. Дура, что и говорить. Выходит, права Ольшанская. Все мы дуры. Даже самые умные.
Тут она некстати вспомнила, как презрительно обозвала ее творчество Ольшанская, и расстроилась совсем.
Андерсен! Вот и жуй свои розовые сопли, сочинитель, далекий от реальности. Хочешь, чтобы все поверили? Так поверь сначала сама.
Если сможешь, родная!
Никому и никогда она не рассказывала, почему в восемнадцать лет так стремительно вышла замуж. Никому и никогда. Потому… Потому, что никто бы ее не понял. Все восхищались – такой дом, такая семья! А главным подарком и украшением семьи была, разумеется, Елена Ивановна. Мать, хозяйка, жена. И еще, между прочим, завлит музыкального театра.
Мать и вправду была красавицей. Никто и не спорил. Высокая, стройная темноглазая блондинка с низким и сочным голосом. Королева! Она умела носить вещи. Бывает у женщин подобный талант. Она украшала любую вещь. Она, а не ее! Даже суконная черная юбка, перешитая из бабушкиной, и обычная, скучная блузка с кружевным жабо смотрелись на ней как парчовое платье, расшитое жемчугом. Королевское платье. И все – натуральное! Цвет волос – спелая пшеница, белая кожа совсем без изъянов. Румянец, блестящие глаза. Ей почти не нужна была косметика и прочие бабские ухищрения – с раннего утра, с постели, она была так свежа и хороша, словно только что распустившаяся роза.
Правда, судьбу ее удачной назвать было сложно – у Елены Ивановны был когда-то прекрасный опереточный голос. А уж при ее внешности – карьера ей была обеспечена. Но… Поворот судьбы, изменивший всю ее жизнь, – в двадцать три года прекрасная Елена переболела тяжелейшим гриппом и получила осложнения на связки. Петь было заказано. Голос Леночки, звонкий, мелодичный, словно хрустальный колокольчик, стал глуховатым и хриплым. Тогда, после болезни, она впала в тяжелейшую депрессию и еле выкарабкалась года через два. Выкарабкалась, но озлобилась. На все и всех. И замуж, как всем показалось, тоже вышла назло. Кому? Да судьбе! После всех ее кавалеров – ярких, фактурных, талантливых – дипломат, подающий надежды физик, молодой, но уже проявивший себя режиссер – Леночка вышла за человека немолодого, скучного и совсем не привлекательного. Мужем красавицы стал рядовой скрипач из театрального оркестра. Красавицу-жену он, разумеется, обожал. Но… Елена относилась к нему с плохо скрываемым раздражением. Понимая, что грипп загубил ее карьеру, а свою женскую участь она выбрала сама. И никто в этом не виноват. Впрочем, отдыхать на заре семейной жизни они ездили вместе, в гости ходили под ручку, семейные праздники отмечали.
А что было у нее на сердце… Да кто ж поймет? Человек она была очень закрытый, подруг не имела – так, пара приятельниц, совсем незначительных – коллеги по театру. Старший бухгалтер Софья Исаковна и балерина кордебалета Инночка. У обеих судьба была невеселая – Соня была старой девой, впрочем, невредной и безобидной, тайно влюбленной в Леночкиного мужа. Она бросалась на помощь Ленусе в любую минуту, как только та ее звала. Сидела с маленькой Женей, выстаивала очереди в магазинах и притаскивала обожаемой Ленусеньке полные сумки. Служила ей безраздельно и преданно. Впрочем, мать это вряд ли ценила. А Инночка была источником сплетен – никто не обладал таким количеством хорошо и плохо проверенных фактов, про театр и коллег, как Инночка. Елене все это было очень кстати – самой опускаться до слухов и интриг ей было неловко, «лицо» она точно держала. А вот знать все и дергать за ниточки было необходимо. А без Инночки вездесущей ей бы не справиться. Только с возрастом Женя поняла, что мать всех использовала. И никто, абсолютно никто не смог заработать даже толику ее искреннего расположения, не говоря уж про любовь.
И еще. Спустя целую кучу лет, только ближе к сорока и то совершенно случайно, Женя узнала, что всю жизнь – всю жизнь! – все тридцать шесть лет «счастливого брака» у матери был другой мужчина. Младший брат Сони – Илья. Женя пару раз, еще в детстве, видела его. Он был высокий, седой и очень красивый. Очень значительный. Жил он одиноко, так и не женившись, служил архитектором в каком-то НИИ, детей у него не было. Почему они не сошлись насовсем? Почему мать так и не ушла к нему, бросив отца? Ведь он был свободен. Загадка. А спросить было не у кого – Соня уже умерла, а подобный разговор с матерью был невозможен. И у самого Ильи спросить было сложно – в начале нулевых он уехал в Америку. Навсегда.
Женя тогда мать только пожалела. Сколько дала ей природа! А результат? А отца… Отца тоже, конечно, жалела. Но… Он, кажется, был вполне доволен судьбой: у него было три страсти, три любви – мать, кактусы и пироги. Кактусы он собирал. Все подоконники были заняты кактусами. Состоял в обществе кактусоведов. Ездил на какие-то встречи, менялся сортами, в общем… Женя всегда удивлялась: кактус казался ей растением странным, неласковым, неживым. Пироги он пек сам, еженедельно. Получалось вкусно. И еще – отец всегда ходил дома в фартуке. Она никогда больше не видела мужиков, которые не снимали фартук!
К дочке он был равнодушен. Так ей казалось. Впрочем, наверное, это была чистая правда – любовь к жене затмевала все остальное. Даже дочь.
Дочкой Елена Ивановна была недовольна. Внешностью, это было ее твердое убеждение, Женя не удалась. Серая мышь. Тощая, голенастая. «Ни изюма, ни огня», – повторяла она.
Хотя в юности Женя считалась хорошенькой.
Мать пыталась с дочкой бороться – Женя не уступала. Из вредности, не иначе, решила она. Да! Вздорный характер – еще один минус. Неусидчива, поверхностна. Способностей – ноль. Обычная, средняя девочка. И что ее ждет? Ну уж точно не карьера и не прекрасный принц. Так и протащится середняком. Обидно. А она, Елена Ивановна, ох как старалась! Покупала «своей дуре» модные тряпки. У спекулянтов, между прочим. Кто бы ценил! Пыталась приучать к косметике. В шестнадцать лет потребовала, чтобы дочка постриглась и изменила цвет волос. Ни-че-го! Ничего этой дуре не надо. Даже единственное, что было у нее хорошо – красивые ноги, – эта дурища прятала под потертыми джинсами. Вы это видели? Хвост на затылке стянут аптечной резинкой. Джинсы, свитер. На три размера больше, чем нужно. Грудь – и так кот наплакал – а уж под этой хламидой… Нет, не сложится жизнь. И семья, кстати, тоже под большим, так сказать, сомнением.
Школу Женя закончила так себе. Ни в иняз, ни в МГИМО идти не захотела. Пошла в педагогический. И Елена Ивановна торжественно объявила: «Теперь ты точно – старая дева!»
Женя часто думала, что замуж она вышла назло. Назло матери, чтобы доказать ей. А однажды задумалась – а книги? Книги – не для того же? Ее, так сказать, творчество? Ее прорыв – нереальный, невозможный? То, что она стала известной писательницей? Без всякого блата и чьей-то поддержки? Почти в сорок лет? Небывалый ведь случай – вырваться из средней школы и стать читаемым автором. Чтобы Елена Ивановна гордо сказала: «Евгения Ипполитова – моя дочь!» Хоть один проект матери оказался удачным. Неожиданно удачным. Хотя Елена Ивановна, похоже, так не считала.
Все мы из детства. И наши комплексы – в том числе. Никита появился на первом же курсе. Брат одногруппницы. Приехал к сестре на картошку, привез продукты и теплые вещи. Женя тогда удивилась – оказывается, вот что такое забота! И вот что такое семья. К ней не приехали ни разу, хотя в семье была машина. Девицы при виде Никиты засуетились и принялись наводить марафет. А Женя не поспешила – подняла глаза на красавца и тут же уткнулась в книгу. Такие не для нее, это понятно. А он – вот чудеса – попросил у сестры телефон именно Жени.
А через два дня после окончания сельских кошмаров, уже в Москве, он позвонил. Женя совсем растерялась и что-то мычала в трубку как полная дура. Слава богу, согласилась встретиться. Никита уже закончил Финансовый и служил в Министерстве финансов. Должность, конечно, маленькая, но есть перспективы. Жил с родителями и сестрой в маленькой двушке на Соколе. Через пару недель уже вовсю целовались в подъездах, и Никита вздыхал и томился, поражая неискушенную Женю своим напором и натиском.
Женя дергалась и вырывалась, не понимая его нетерпения, а он жарко клялся в любви и продолжал с тем же рвением яростно прижимать Женю к стенке в мрачном и темном подъезде.
Новый год встречали вдвоем в квартире его родителей. Те уехали в гости, прихватив с собой дочь. Там все и случилось, и утром, глядя на сонную Женю, он спросил: «А может быть… нам пожениться?»
Она растерялась, пыталась неловко отшутиться, пошла в ванную и там под включенную воду задавала себе один и тот же вопрос: а любит ли, собственно, она его? Того, с кем провела сегодняшнюю ночь?
И ответа не находила.
Да нет, скоро нашла. И ответ этот ее очень обрадовал – Никиту она очень любит! За то… что он любит ее. Ведь ее, Женю, полюбить было сложно. Почти невозможно – так говорила Елена Ивановна, мама. За что ее можно любить? Она – серая мышь. Ни ума, ни таланта. Ни красоты. «Боже, как мне повезло!» – думала Женя, давно подготовленная матушкой к роли старой девы.
И правда, любила. Как поняла? Да потому, что ей очень нравилось отвечать на его любовь. Отвечала отчаянно, отзывалась горячо, словно боясь, что все это внезапно кончится, оборвется. Что он заподозрит ее во вранье. Она, не привыкшая к тому, чтобы ее любили, нуждались в ней, торопились к ней, скучали по ней, шептали ей невозможные слова, все ждала, когда молодой муж, наконец, прозреет и увидит то, что, собственно, всегда видела в ней ее мать. Обычную женщину, рядовую, незначительную – такую, которая не стоит пылкой любви и нечеловеческой страсти.
Мать отнеслась к выбору дочери благосклонно. И даже слегка удивилась, приподняв красиво изогнутую бровь, когда Никита пришел просить руки ее дочери.
– Выходи! Что тут думать? – не стесняясь своей откровенности, сказала она. – И считай, что тебе повезло.
Даже не поинтересовавшись, а любит ли дочь своего избранника.
Свадьбу сыграли в дорогом ресторане – на этом настояла Женина мать. Родители Никиты были смущены и растеряны – это никак не вписывалось в их скромный бюджет. Но ослушаться Елену Ивановну не посмели. Денег назанимали и свадьбу сыграли – куда деваться?
Мать заказала в швейном театральном цеху свадебное платье. Оно получилось чудесным. Чуть розоватое, самую малость, длинное, струящееся, шелковистое. По воротнику и по подолу нежное кружево, и маленькая шляпка-таблетка тоже украшена кружевной вуалью. Кажется, впервые в жизни она была довольна дочерью.
На свадьбу были приглашены ведущие артисты театра и прочая театральная знать. Только родители Никиты смущенно жались в углу, с тревогой разглядывая великолепие стола и знатных гостей.
Сняли комнату – волевым решением матери.
– К нам – невозможно, – объяснила она, – ни вам, ни мне это не нужно.
А у родителей Жени была, кстати, трехкомнатная квартира. Приличного метража. К свекрови – вообще полный бред. Ни кубатуры, ни смысла вообще. «Такую дуру, как ты, тут же загонят под лавку», – повторяла мать.
Первую свою комнату они очень любили. И с тоской вспоминали все годы. Она и вправду была чудесной – пусть первый этаж, совсем низкий, зато густой палисадник в сирени, тихая улочка, огромное окно, полукруглые стены, в которых трудно было расположить мебель, но которые почему-то придавали жилищу неповторимость и уют. Да и какая у них была мебель? Тахта, книжный шкаф и шкаф платяной. Торшер с голубым абажуром, столик у кровати, покрытый синей скатеркой. Свечи в керамических подсвечниках и засохшая роза в бутылке из-под шампанского. Денег на скромную жизнь хватало – зарплата Никиты и Женина стипендия. На пельмени, готовые котлеты, билеты в кино и театр и даже «на принять друзей» – тогда было просто. Кто-то приносил салат с колбасой или с рыбой, кто-то жареного цыпленка, Женя пекла простой пирог, чаще всего шарлотку, открывали банку консервов – шпротов или сайры – и сидели до утра, запивая все это вином. Иногда варили глинтвейн.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.