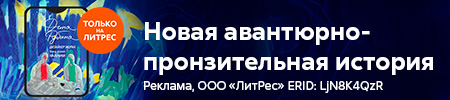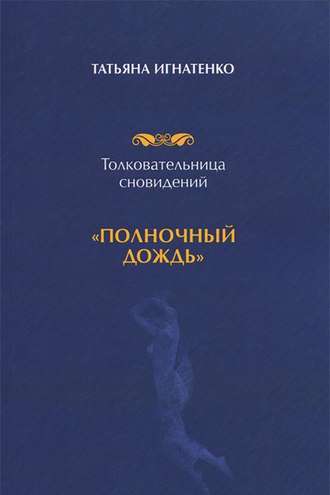
Полная версия
Толковательница сновидений. «Полночный дождь»
Никаких психоаналитических мыслей о карандаше, норе, тем более «оральной агрессии» у нее не возникло. Более того, читая про Белого Кролика, она сразу же вспоминала маму, их вечерние разговоры под одеялом. И сразу же возникало чувство защищенности, беспечности, теплоты…
Но, прочтя статью американского математика и писателя Мартина Гарднера «Аннотированная "Алиса"» в дополнении к другому изданию сказки, она пришла в негодование.
По мнению Гарднера, подробнее и лучше других написала о Кэрролле нью-йоркский психоаналитик Филис Гринейкер, которая считала, что писатель страдал от эдипова комплекса! Именно поэтому он отождествлял маленьких девочек со своей матерью, а сама Алиса просто является образом матери. Казалось бы, Гарднер ставит под сомнение соображения Гринейкер, отмечая, что существует письмо, в котором Кэрролл признавался, что смерть отца была «величайшим горем всей его жизни». Однако далее текст самого Гарднера становится двусмысленным: он многозначительно упоминает о возможной влюбленности Кэрролла в Алису Лидделл и что мать девочки была против ее дружбы с таким взрослым мужчиной. При этом якобы сам Кэрролл считал «свою дружбу с девочками совершенно невинной». Затем Гарднер и вовсе утверждает, что «в наши дни Кэрролла порой сравнивают с Хамбертом Хамбертом, от чьего имени ведется повествование в "Лолите" Набокова», но сразу же добавляет, что Кэрролла тянуло к девочкам, «потому что в сексуальном отношении он чувствовал себя с ними в полной безопасности». Кэрролл, по мнению Гарднера, был воплощение невинности и страстности: «сочетание, уникальное в истории литературы» [6].
«Масса весьма специфической информации для людей, решивших просто прочитать сказку! – думала Алиса. – Одно сравнение Кэрролла с набоковским любителем нимфеток чего стоит. Как хорошо, что простые читатели, тем более дети, совсем не читают дополнений к книгам! Им интересна только сама сказка…»
Что же касается Фрейда, то Алиса не считала его ни невротиком, чьими неврозами озабочен весь мир, ни гениальным ученым, открывшим истину.
Для Алисы изобретатель психоанализа был, прежде всего, мистификатором и авантюристом, безумно желавшим славы и денег. Эта мысль возникла у нее при изучении его биографии.
…Мальчик, родившийся в бедной семье, обратился к медицине по необходимости, под давлением отца. Занимался сомнительными и опасными авантюрными проектами: кокаин[7], гипноз… Сложные личные отношения, как с друзьями-мужчинами, так и с женским полом… Постоянная экономия, профессиональные неудачи. И, наконец, словно выход из положения, золотая жила – психоанализ, в котором он заговорил о том, о чем не принято было тогда говорить, – о сексуальности. В итоге его, конечно же, услышали: кто с негодованием, а кто и с удовольствием. Что еще нужно для пиара человеку, чей авантюризм смел все нравственные тормоза!
Так думала Алиса. Ее, например, бесконечно возмущали интерпретации Фрейдом биографий великих людей… Леонардо да Винчи он обвиняет в латентной гомосексуальности, Достоевского в склонности к отцеубийству, в онанизме… и вообще в сделке с совестью, которую Фрейд называет «характерной русской чертою»!!! [8].
Велик был соблазн после прочтения всего этого все-таки обвинить самого Фрейда в агрессивном неврозе. Однако Алису смущали «милые» отступления Фрейда, в которых он соглашается, что его научные выводы имеют право на существование лишь с «пристрастной точки зрения определенного мировоззрения» [9].
Почему же Фрейд тогда так оскорбителен в своих выводах? Видимо, потому, что известнейших людей, которых он «подверг психоанализу» и которым установил диагноз, уже нет в живых и они не могут «дать сдачи». Обывателю же о них читать интересно…
Словом, человек по имени Зигмунд Фрейд был сложным. Но мыслил, как казалось Алисе, очень рационально. Сделал себе наконец-то имя и вошел в историю.
Мнение о «венском шарлатане» у Алисы во многом изменилось, когда она наткнулась на описание Фрейдом классической невротической личности. В этом описании шел рассказ о маленьком мальчике, который «в первые годы своей жизни спал с родителями в одной комнате и имел неоднократную и на самом деле регулярную возможность наблюдать половой акт родителей… Такие наблюдения преждевременно пробудили у ребенка мужскую агрессивность, он начал возбуждать свой маленький пенис рукой и пытался предпринимать различные сексуальные нападения на мать, отождествляя себя таким образом с отцом, на чье место себя ставил. Это продолжалось до тех пор, пока мать не запретила ему трогать пенис и не пригрозила, что расскажет об этом отцу, который накажет его, отобрав этот греховный орган. Эта угроза кастрации оказала на мальчика исключительно сильное травматическое воздействие…»[10]. Далее Фрейд писал, что после этого ребенок стал очень бояться отца и все больше держаться матери. Латентный период эдипова комплекса прошел у него бессимптомно. Более того, он стал примерным мальчиком и был неплохо успевающим учеником. Наступление половой зрелости, однако, принесло с собой явный невроз: импотенцию, страх перед женщинами, яростную ненависть к отцу, мысли о самоубийстве и как следствие конфликты с внешним миром: у него не было друзей, его преследовали профессиональные неудачи. После смерти отца он наконец женился, но это не решило его проблем… В итоге «он превратился в совершенно эгоистическую, деспотичную и грубую личность, он явно ощущает потребность подавлять и оскорблять других людей» [11].
Алису потрясло, насколько это совпадает с автобиографией Фрейда. Если это так, то маленьким мальчиком, боявшимся кастрации, был сам Фрейд! Но тогда… как же страдал этот человек! И дело не в придуманном потом эдиповом комплексе и перенесении его на всех детей, а в глупой, жестокой матери, которая так испугала ребенка! И навсегда испортила его отношения с отцом, который, по мнению ряда биографов, на самом деле был мягким человеком!
– Родители! Держите язык в узде! Вы можете искалечить детям жизнь!!! – хотелось крикнуть Алисе.
Но она успокоила себя тем, что, возможно, это ее интерпретация событий. Не нужно, подобно Фрейду, в отношении самого Фрейда «стоять со свечкой»! Однако эмоциональная сторона «общения» Алисы с отцом психоанализа «имела место быть». Она это понимала. И старалась не терять объективности. Считая, что все работы автора эдипова комплекса требуют верификации[12], она уважала его как яркую личность, талантливого писателя и ученого, чьи некоторые идеи, безусловно, были важны для современной науки.
Поэтому на лекциях она обязательно рассказывала студентам о «венском шарлатане», не называя его таковым…
…И в тот раз, три года назад, после разговора с молодым воздыхателем, Алиса на очередной по расписанию лекции заговорила о Фрейде, для начала продиктовав студентам следующее:
– Зигмунд Фрейд – австрийский невропатолог, психиатр, психолог, создатель психоанализа. Психоанализ – часть психотерапии, врачебный метод, развитый Фрейдом в конце XIX – начале XX века для диагностики и излечения истерии.
Но самое главное, для чего все было затеяно, – она рассказала, что Фрейд ввел понятие «эдипов комплекс», под которым понимал комплекс детских переживаний, состоящий из влечения мальчика к матери, с ревностью и недоброжелательством по отношению к отцу.
Далее Алиса рассказала миф о царе Эдипе. В плане критики Фрейда позволила себе сказать, что и в самом мифе, и в трагедии древнегреческого драматурга Софокла «Царь Эдип» речь идет о фатальности человеческой судьбы, ее предопределенности, с которой безуспешно пытался бороться Эдип. Она отметила, что Фрейд, однако, увидел в этом мифе свои мотивы.
Хотя против правомерности введения термина «эдипов комплекс» свидетельствует и то, что Эдип не выбирал свою мать в жены, она досталась ему в придачу вместе с городом Фивы, в котором он стал царем, после победы над сказочным чудовищем. А также, убивая своего отца, он не знал, что это его отец. Убийство было случайным.
При этом Алиса констатировала, что термин «эдипов комплекс», тем не менее, прочно осел в психологии и теперь под этим понимается состояние, способное блокировать нормальное половое развитие. Например, молодой человек влюбляется в женщину значительно старше его, которая напоминает ему мать: любовный выбор падает на людей, уже состоящих в браке, поскольку их социальная позиция аналогична позиции родителя.
– Что же касается меня, – Алиса резко сменила академический стиль лекции, – я считаю проявлением эдипова комплекса любой случай, когда мужчина сексуально ориентирован на женщин старше себя более чем на десять лет, какими бы причинами это ни было обусловлено. Поверьте, их множество, и не только из-за ситуации с родителями. У каждой психики свои причуды.
– Почему десять лет? – заинтересовалась аудитория.
– Потому, что люди, рожденные в этих рамках, считаются людьми одного поколения. То есть «братья и сестры», но никак не родители и дети.
Тут Алиса сделала паузу и скользнула взглядом по «секьюрити».
– Хотелось бы сказать о своем отношении к молодым мужчинам: лично меня они не интересуют. Однако сейчас стало модным даме постбальзаковского возраста…
– А это какой возраст?
– Во времена французского писателя Оноре де Бальзака бальзаковский возраст был примерно тридцать лет. Считается, что словосочетание «женщина бальзаковского возраста» появилось после выхода его романа «Тридцатилетняя женщина». Сейчас, по разным источникам, предполагается, что это возраст от тридцати до сорока. То есть мне сорок два и, значит, я – дама постбальзаковского возраста, так как приставка «пост» означает…
– «После», – отреагировала аудитория.
– Продолжаю… даме постбальзаковского возраста сейчас модно иметь молодого друга, а то и мужа. Особенно это заметно по шоу-бизнесу. Здесь есть объяснение: не все молодые мужья страдают эдиповым комплексом, среди них много и альфонсов. Женщины сейчас по всем статьям наступают на пятки мужчинам. Не надо объяснять, кто такие альфонсы?
– Не надо, – дружно заверещала аудитория. – Мы знаем. Это те, которые живут за счет женщин.
Алиса продолжила:
– В условиях современного растущего феминизма дамы вполне, если они экономически независимы, могут позволить себе любые капризы, как это испокон веку позволяли себе мужчины. Но тут есть одно «но»: общество никогда не будет считать нормой, когда женщина намного старше своего партнера, так как это плохо сказывается на демографии. А все, что может способствовать вырождению, социум не одобряет, хотим мы того или нет! Это общественный закон. Поэтому женщина, желающая связать свою жизнь с мужчиной, который ей может годиться в сыновья, не должна удивляться реакции людей! И потом, природу не обманешь. Рано или поздно молодой муж задумается о детях, и сначала неосознанно, а потом и осознанно начнет обращать внимание на молодых, способных принести ему потомство. И это – уже биологический закон.
Возможно, вы мне скажете: а как же любовь? Безусловно, в жизни все бывает. Но в этих случаях счастливые и долгие браки случаются очень редко. Я знаю только одну такую историю: когда молодой муж одной известной писательницы сказал: «Моя жена как антикварная вещь, чем дальше, тем дороже…»[13]Но обычно – результат печален. Почитайте хотя бы об Айседоре Дункан и Есенине.
– А Пугачева с Галкиным?
– Ничего не могу сказать, – улыбнулась Алиса. – Время покажет. Здесь много подводных течений, о которых знают только двое…
И тут она посмотрела на «секьюрити». Он сидел с каменным лицом и сверлил ее глазами. Их взгляды встретились… Ничего, кроме злости, в его глазах Алиса не увидела.
После этого он стал сидеть на последней парте, прячась за спины одногруппников. Или ей так казалось… Впрочем, далее все было в рабочем режиме. В затылок «секьюрити» больше не дышал. Алиса старалась не смотреть в его сторону. Баллы этот студент набрал приличные и получил «автомат». Пожалуй, если бы сейчас они встретились, Алиса вряд ли его узнала…
…Однако при словосочетании «эдипов комплекс» в ее голове почему-то всегда всплывали злые глаза «секъюрити», и она испытывала внутренний дискомфорт.
Сегодня дискомфорт усилился неприятным ощущением нелепой несправедливости. Причиной этому являлась записка с фразой: «Философия – бред». Алисе было обидно, что Савинов написал это после лекции, прочтенной, как казалось, очень удачно.
…Она мысленно вернулась в начало занятия: вот она входит в аудиторию твердым шагом. Лицо бесстрастно. Встав за кафедру, делает паузу. Затем говорит:
– Меня зовут Алиса Львовна Светлова. Дисциплина наша называется «Философия». Запишем название лекции и вопросы к ней.
Такой академизм был нужен при первом знакомстве, особенно на младших курсах. Довольно сухо осветив первые два вопроса и убедившись, что внимание студентов под контролем, она лишь на третьем, «место и роль философии в культуре», начала завоевывать их сердца, по сути дела рекламируя необходимость развития философского мышления. Говорила об адекватности, широте сознания, аналитическом уме, мудрости, в том числе и житейской… И, самое главное, об успешности!
Ее слушали внимательно, смеялись, где это предполагалось, задавали вопросы. «Оратор» была собой довольна. И вдруг: «Философия – бред»!
«Что я делала не так?» – размышляла Алиса.
…Дальше анализировать прочитанную лекцию было некогда – начиналась следующая.
И тут раздался звонок: напомнил о себе ее мобильник. Алиса увидела, что вызывает начальница – Ольга Николаевна, заведующая кафедрой, которая на данный момент была на больничном, но продолжала твердой рукой курировать все дела в подчиненном ей коллективе.
В голове у Алисы зазвучала забавная песенка мышонка из мультфильма:
«Какой чудесный день…»
«Чудо» звонка заключалось в том, что Ольга Николаевна практически никогда не звонила своим подчиненным. У нее для этого были заведующая кабинетом Ирина Георгиевна, которая на кафедре повелевала всей документацией, и лаборант Галя, состоявшая у последней на побегушках. Поэтому Алиса сразу насторожилась.
– Алиса Львовна, я буквально на минутку – знаю, у вас лекция. – Голос у Ольги Николаевны был странно-извиняющийся. Обычно она говорила коротко, сухо, безапелляционно.
– Ничего, ничего, – моментально отреагировала Алиса, – я вас слушаю.
Далее и вовсе началось что-то удивительное. Ольга Николаевна сказала, что ей нужна помощь, что вопрос очень деликатный и что она не хочет, чтобы об этом звонке кто-то знал. И, вообще, она завтра ждет Алису у себя дома в удобное для нее время. Совершенно обескураженная Алиса (ибо ситуацию можно было сравнить только с приглашением на съемки в Голливуд) осторожно спросила:
– Скажите хотя бы, по какому поводу! А то я ночью спать не буду.
И она не шутила. Это было бы действительно так. Когда очень прогнозируемые люди, такие как Ольга Николаевна, ведут себя вопреки привычной линии поведения, это всегда удивляет. А в подобных обстоятельствах – и немного тревожит.
– Просьба касается вашей способности толковать сновидения.
– Это лишь мое хобби.
– Не оправдывайтесь, – как-то очень встревоженно отреагировала Ольга Николаевна, – мне действительно нужна ваша помощь.
– Тогда завтра в 14.00.
– Не забудьте о конфиденциальности моей просьбы! И еще… разговор предстоит долгий.
– Хорошо. – Алиса еще больше насторожилась. – Значит, я на вечер ничего не планирую.
– Хотелось бы..
А студенты уже ждали. Алисе потребовалось жесточайшее усилие над собой, чтобы собраться и отключиться от всех сегодняшних «чудес». Она прочла лекцию по облегченному сценарию, насколько возможно сократила обязательную часть и увеличила долю популизма – не хотелось, чтобы еще кто-то решил, что «философия – бред»!
Глава 3. Красавцы-мужчины
После лекции Алиса пошла на кафедру. Там предстояло очередное заседание. По дороге в соседний корпус почувствовала, что устала. Но идти было надо. Пропускать мероприятие, происходящее раз в две недели, в установленное начальницей время, не разрешалось, даже когда та отсутствовала.
В преподавательской, как всегда, сидели «местные аборигены» – два доцента, работавшие на кафедре еще с советских времен: Максим Петрович и Петр Сергеевич. Максим Петрович, высокий худой старик, был убежденным сталинистом. Надо отдать должное, студентов он своими убеждениями не грузил, но коллегам-преподавателям пускаться с ним в разговоры было опасно: рано или поздно все разговоры склонялись на животрепещущую тему о роли Сталина в истории. Глаза Максима Петровича становились блестящими, на щеках выступал румянец… Далее говорил только он, и выйти из общения несчастному собеседнику было практически невозможно.
Петр Сергеевич страдал другим «милейшим качеством» – он был ухажер. Увидев коллегу женского пола, обязательно близко к ней подходил, брал за ручку и, заглядывая в глаза, начинал говорить дежурные комплименты. При этом сам Петр Сергеевич редко менял рубашки и тем более костюмы и, понятно, парфюмом не пользовался. Хотя Алиса иногда думала, если бы он еще и пользовался парфюмом, то какой бы это был парфюм… и как бы он сочетался с естественной «аурой» Петра Сергеевича, которую так «обоняли» близко стоящие окружающие. Но тот был скуповат, поэтому «страшные» размышления Алисы обычно заканчивались грустной улыбкой – в целом и к одному, и к другому «аборигену» она относилась нормально – жалела этих двух одиноких стариков. Однако появляться на кафедре при отсутствии других женщин было опасно, поэтому, приоткрыв дверь и увидев двух знакомых персонажей, она предпочла дождаться в коридоре кого-нибудь из коллег, чтобы без дискомфорта войти в преподавательскую.
Очень скоро этими другими коллегами оказались друзья: Кеша и Гоша. «Красавцы-мужчины», а именно такой эпитет закрепила за ними женская половина вуза, появились в конце коридора. В тридцать два года оба были не женаты, что только усиливало интригу. Кеша (для студентов Иннокентий Александрович) стал кандидатом наук раньше и уже работал в должности доцента. Гоша (Георгий Андреевич) защитился позже и только ждал подтверждения из Высшей аттестационной комиссии, что его диссертация прошла все нужные инстанции, поэтому работал еще старшим преподавателем. Когда они совместно пили пиво, Гоша всегда напоминал Кеше о разнице в окладе, изображая Кису Воробьянинова, просящего милостыню. Кеша над ним потешался, но за пиво не платил…
Они действительно обращали на себя внимание. Оба высокие: Гоша – плотный, с необъятными плечами и очень русским лицом – казался еще мощнее на фоне изящного Кеши. Его светлые волосы были коротко пострижены, что позволяло обозревать внушительный атлетический затылок и широкий гладкий лоб. Ясные глаза Гоши смотрели на мир добродушно, как это часто бывает у людей недюжинной физической силы. Однако в этой «бездне добродушия» таился и насмешливый лукавый огонек…
Кеша был неподражаем по-своему – шатен, кудрявые волосы, тонкий нос, пухлые губы. В отличие от былинного Гоши он был воплощением романтической внешности. К «байроновскому» [14] облику добавлялась своеобразная прыгающая походка, при которой Кеша высоко, «как кузнечик», поднимал коленки.
Ему нравился имидж Чайльд-Гарольда[15], поэтому Кеша любил поговорить с противоположным полом об английской поэзии. Разговоры носили, как правило, характер монолога с чтением стихов типа:
Но вдруг, в расцвете жизненного мая,Заговорило пресыщенье в нем,Болезнь ума и сердца роковая… [16]Однажды, наблюдая, как, слушая друга, недоуменно скучает очередная блондинка, Гоша не выдержал. Он усмехнулся, отвел Кешу в сторону и заметил:
– Ей твои речи интересны, как зайцу барабан. Хочешь понравиться – скажи обычный комплимент!
– Фу! Фу! Как примитивно! – моментально отреагировал Кеша. – Что-то я не помню, чтобы ты грешил комплиментами?
– То – я! – парировал Гоша. – Я – не фрачный герой! [17]
И, подойдя к блондинке твердой, мужской, уверенной походкой, небрежно бросил:
– Извините, что отвлек вашего собеседника?
– Ничего! Ничего! – залепетала жертва романтической лекции и приняла томную позу.
Не будучи фрачным героем, Гоша, тем не менее, слыл дамским любимцем. Его стиль общения с женщинами был прост: никакой суеты – сами придут и сами все расскажут. Но при этом он был ненавязчиво, естественно галантен: если на заседании кафедры опаздывающей женщине не хватало стула, первым вставал Гоша, уступал место и шел за стулом в соседнюю аудиторию. Причем было не важно, сколько женщине лет. И еще – он ни о ком не говорил плохо. Если беседа скатывалась на личности, Гоша начинал говорить общие фразы, типа: «Все люди разные, у каждого свои тараканы», и тихо ретировался под любым предлогом. Кеша посплетничать любил, мог быть язвительным, но никогда не злобствовал. Вот и сейчас, увидев Алису, моментально отреагировал:
– Чёй-то мы в коридоре мнемси? А? Алиса Львовна? Небось, Петр Сергеевич на кафедре?
– Вас жду! – парировала Алиса.
– Куда же вы без нас, – согласился Гоша.
И они вошли в преподавательскую. Петр Сергеевич встрепенулся, буквально выписывая коленца, двинулся к Алисе.
– Алисочка! Как я рад вас видеть! Позвольте снять с вас плащ.
Казалось, его ничто не могло остановить. Даже красноречивое выражение лица своей жертвы.
Но на пути встал Гоша.
– Петр Сергеевич! Я сам поухаживаю за дамой. Ждал этого весь день.
И закрыл Алису своим могучим торсом. Тщедушный ухажер подпрыгнул, попытался обойти Гошу, но на пути встал Кеша.
– Как здоровьице, Петр Сергеевич?
– Нормально! – недовольно произнес старик. – И пошел на свое место, при этом буркнув:
– Верные оруженосцы!!!
…Алиса долго потом раздумывала над этой фразой. Она не считала своих молодых коллег «верными оруженосцами». Красавцы-мужчины были для нее «мальчишками» и «собутыльниками», во всяком случае, рассказывая о них своим близким, она упоминала эти термины. Причем последний был не только из области юмора. Алиса, Кеша и Гоша после работы иногда заходили в соседнее кафе. Им всегда было о чем поговорить и что выпить, в зависимости от настроения это могло быть кофе, пиво, а то и что-нибудь покрепче… Такое общение началось давно, лет семь назад, когда Гоша и Кеша практически одновременно пришли аспирантами на кафедру. У Ирины Георгиевны тогда был день рождения. Она пригласила весь коллектив к себе домой. Была обильная еда и много выпивки. Ирина Георгиевна любила блеснуть радушием. Алиса, как всегда, в компаниях пила водку. Вино во всех видах ей категорически было нельзя. Однажды, после домашнего вина, с ней случился отек Квинке[18] – пренеприятнейшее явление, делающее веки как у гоголевского Вия, уши как у статуи с острова Пасхи, а шею – как у черепахи Тортиллы. Попав два раза в больницу, Алиса вынуждена была отказаться от вина. Коньяк и прочие изыски она пила, только будучи уверенной, что все это хорошего качества. Качество никто не гарантировал, поэтому Алиса чаще всего себе позволяла выпить рюмочку водки, особенно, как говорил герой Чехова, когда ее, «мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра, или в этакий пузатенький с надписью "его же и монаси приемлют"» [19]. А иногда и не только рюмочку… Тем более что обладала удивительным свойством практически не пьянеть.
Вернее, то, что с Алисой происходило, если она вдруг перепивала, было ни на что не похоже. Второго такого человека, который бы так реагировал на алкоголь, она не встречала. Ни после первой, ни после второй рюмки Алиса ничего не чувствовала. Третья могла дать легкое воодушевление. И не больше… Обычно на третьей все заканчивалось. Но несколько раз она отвлекалась и теряла рюмкам счет… В ее физическом состоянии ничего не менялось: говорила четко, мыслила трезво, была обаятельной и привлекательной, но если рядом стоящий шкаф вдруг начинал слегка качаться – это был опасный симптом. Качался он всего секунду, но Алиса знала точно – пора бежать домой. Это было настоящее чувство Золушки при бое часов: «вот-вот карета превратится в тыкву».
Добравшись до дома, она хватала тазик и запиралась в своей комнате. Всю ночь потом хотелось кричать: «Добейте меня, братцы!» Было ужасно стыдно показаться на глаза домашним. Слово «опохмелиться» звучало как приговор. Алиса буквально травилась алкоголем. И пока организм до последней молекулы не выбрасывал «отраву», не становилось легче. Только к часу следующего дня появлялось робкое желание чего-нибудь поесть и выпить сладкого чая. В том момент Алиса давала себе клятву никогда… никогда… никогда больше не пить! Надо отдать должное, что такие происшествия случались раз в десять лет. А после сорока и вовсе она стала аккуратнее в возлияниях. Вот и в тот раз, на дне рождения Ирины Георгиевны, Алиса была после третьей рюмочки…в хорошем настроении.
…После мероприятия Кеша и Гоша вызвались ее проводить. По малолетству они не вызывали у Алисы опасения, их поведение ничем ее не настораживало, как это было, например, когда такое желание высказывали мужчины-сверстники. В состоянии воодушевления лица «мальчишек» показались чрезвычайно милыми, и она решила подвести их к своему дереву, тем более что дорога шла мимо. Это дерево было из детства. Здесь когда-то, еще с XIX века, стояло Алисино родовое подворье. Несколько домов. Потом их снесли и построили хрущевки. А дерево осталось. Старый клен. По семейному преданию, его посадила прабабушка, о которой много рассказывала бабушка Катя. При каждом удобном случае правнучка подходила к дереву и касалась его рукой. Если никто не видел, обнимала ствол, приложив ухо к старой коре: представляла старинный двор с ноготками и бархатцами, прабабушку Таню, сидящую на лавочке возле аккуратного крыльца.