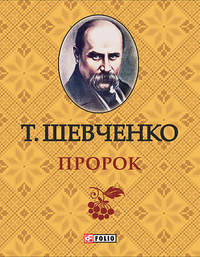полная версия
полная версияЖурнал
К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было, однако же, и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и воздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельнобагровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и в заключение выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить Бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.
Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел, а должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное назидание от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дожду ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.
Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего Всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летущего старика Сатурна, а никак не следствие горького опыта.
Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значит, с приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного поличия, и вторым письмом со вложением, еще менее вещественным. Со вложением небывалого рассказа мнимого варнака под названием «Москалева криныця». Я написал его вскоре по получении письма от батька отамана кошового. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст Бог, вырвуся на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы свободы?
21 [июня]
Вперед, вперед, моя исторья,Лицо нас новое зовет.У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление вместе с комендантом, он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике Киреевском. Полковник этот Киреевский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следущее дело показывает, что г[раф] П[еровский] весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и 600-ми крепостных душ.
История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Киреевским, просил его, когда он выехал в Петербург, просил он его и лично и письмом из Новопетровского укрепления как в некотором роде химика и знатока фотографического дела. Просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Киреевский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу. И потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходи[мы]ми химическими солями. Тем все и кончилось. Благородный, обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу, чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Киреевским. От Марковича еще известие не получено. А из «Русского инвалида» видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Киреевский принят новым генерал-губернатором Катениным, тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600 душ крестьян, аристократ, наперсник г[рафа] П[еровского], наконец, полковник Киреевский – подлец и негоднейшая тряпка.
Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Киреевского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.
Сегоднишним же числом мне хочется записать, или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напичкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем, ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это двадцатилетний юноша, сын статского советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета.
25 [июня]
Только что успел я написать «Следовательно, тоже птица не мелкого полета», как раздалося во всех концах огорода слово «пароход». Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однако ж, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно, и волшебного, очаровательного слова. А вместо оного слова привез дело в виде рыжей весьма непривлекательной персоны, т. е. привез баталионного командира, первым делом которого было обегать казармы, надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до профоса. А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, – приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастие принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5-ти и до 7-ми часов, во ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился во всем своем грозном величии сам судия и испытывал, или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10-ти часов. В заключение спектакля спросил претензию, ругнул в общих выражениях, посулил суд и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих конфирмованных должен был и я предстать после обеда в 5 часов на вторичное и еще горшее испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно как человек вполовину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполовину свободного, во мне не осталось, та же самая мучительная хо[ло]дная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние года, чувство – нет, не чувство, а мертвое бесчувствие – охватило меня при взгляде на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ра[н]жиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.
– Ты за что? – спросил он у первого.
– За утрату казенных денег, Ваше высокоблаго[ро]дие.
– Да, знаю, ты неосторожно загнул угол. Наде[ю]сь, вперед не будешь гнуть углы, – сказал он насмешливо и обратился к следующему.
– А ты за что?
– По воле родительницы, Ваше высокоблагородие.
– Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и… – и обратился к следующе[му].
– Ты за что?
– За буйные поступки, Ваше высокоблагородие.
– Хорошо. Надеюсь, вперед… и…
– Ты за что? – спросил он у следующего.
– По воле родителя, Ваше высокоблагородие.
– Надеюсь… а ты за что? – спросил он, обращаясь ко мне.
– За сочинение возмутительных стихов, В[аше] высокоблагородие.
– Надеюсь, вперед не будешь…
– А ты за что, за что? – спросил он у последнего. Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обрат[ил] к нам сильную назидательную речь, замкнувшуюся весьма новой истиной, что за Богом молитва и за царем служба не пропадают.
В заключение церемонии спросил он у ротного командира, почему Порциенко не явился на испытание, на что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти конфирмованные, так называемые господа дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю с своими отвратительными героями – пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление. И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобоисполнимую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь – вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее – предоставить их попечению нежных родителей, пускай спотешаются на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.
До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразил своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам. Слово «несчастный» имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлело, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.
По распоряжению бывшего генерал-губернатора, довольно видного политика Обручева, я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклейменным злодеям слово «несчастный» более к лицу, нежели этим растленным сыновьям беспечных эгоистов родителей.
26 [июня]
Два дни уже прошло, как выехал от нас отец-командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжелого влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот отвратительный смотр так плотно притиснул мои блестящие розовые предположения, так меня обескуражил, что если бы не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обессилел под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава Богу, что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые, самые затейливые арабески.
Надеждою живут ничтожные умы, – сказал покойник Гете. И покойный мудрец сказал истину вполовину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная нянька-любовница. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря, и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю – безотчетно. Тот действительно ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге? Увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною не виденный, услышу волшебницу оперу. О как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный, холодный атеист, если бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.
Материальное свое существование я предполагаю устроить так, разумеется, с помощию друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки сепиею с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих эстампов. Для этого, я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примуся за исполнение эстампов, и первым эстампом моим будет «Казарма» с картины Теньера. С картины, про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл Брюллов, что можно приехать из Америки, что[бы] взглянуть на это дивное произведение. Словам великого Брюллова в этом деле можно верить.
Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравером, значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распространителем света истины. Значит быть полезным людям и угодным Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравера!
Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет в гравюре акватинта и собственное чадо – «Притчу о блудном сыне», приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков они уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение ее оказалось для меня не по силе. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное – не карикатурная, скорее драматический сарказм, нежели насмешка. А для этого нужно прилежно поработать.) И с людьми сведущими посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества.
Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова или «Свои люди – сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя. Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть через эту бестолковую тму-мну. На пороки и недостатки нашего высшего общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то только героическими средствами, кроткий способ сатиры тут недействителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс – это огромная и, к несчастию, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская лубошная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын. Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский, человек, стоящий веры, что будто бы комедия Островского «Свои люди – сочтемся» запрещена на сцене по просьбе московского купечества. Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за расчет правительства покровительствовать невежество и мошенничество. Странная мера!
27 [июня]
От купечества перехожу к офицерству. Переход не резкий, даже гармонический. Эта привилегированная каста также принадлежит среднему сословию. С тою только разницею, что купец вежливее офицера. Он офицера называет: вы, ваше благородие. А офицер его называет: эй ты, борода. Их, однако ж, нисколько не разъединяет это наружное разъединение, потому что они по воспитанию родные братья. Разница только та, что офицер вольтерьянец, а купец старовер. А в сущности одно и то же. Сегодня к вечеру появилися комары на огороде, и я, чтобы избавиться этих несносных насекомых, ушел на ночь в укрепление. Но увы! Неумолимая Немезида преследует меня на каждом шагу. Избегая комаров, я наткнулся на шмелей. С подобающим почтением проходя мимо офицерского флигеля, я услышал новую для меня песню, начинающуюся так:
Коврики на коврикиИ шатрики на шатрики.Далее я ничего не мог расслышать, потому что певец слишком густо забасил и потому что пьяный Кампиньони, инженерный офицер и отчаянный пьяница, выбежал на площадь, не знаю для какой надобности, и, увидя меня, вздумал оказать мне небольшую услугу, покровительство, познакомив меня с вновь прибывшими офицерами, с лихими ребятами, по его выражению. Для этого схватил он меня за рукав и потащил в коридор. Вновь прибывшие лихие ребята сидели и лежали в одних красных рубахах на разостланной кошме, и перед ними красовалась полуведерная бутыль сивухи. Живая сцена из «Двомужницы» князя Шаховского. Я, чтобы не дополнить собою группы волжских разбойников, вырвался из объятий покровителя и выбежал на площадь. Покровитель выбежал за мною, закричал дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на гауптвахту за лично нанесенную дерзость офицеру. Приказание офицерское было исполнено в точности. После пробития зори дежурный по караулам доложил коменданту о вновь прибывшем арестанте, и комендант сказал: «Пускай проспится». Итак, я, избегая кровопийц комаров, отдан был на терзание клопам и блохам. Как после этого не верить в предопределение?
Сегодня новый дежурный по караулам разъяснил темное происшествие коменданту, и я милостиво освобожден от беспощадных инквизиторов. Записывая в журнал эту весьма обыкновенную в моем положении трагишутку, я в глубине души прощаю моих гонителей и только молю Всемогущего Бога избавить скорее от этих получеловеков.
Сегодня ожидают пароход с почтою из Гурьева. И никто его не ожидает с таким трепетным нетерпением, как я. Что, если не привезет он мне так долго ожидаемой свободы? Что я тогда буду делать? Придется, во избежание гауптвахты с блохами и клопами, знакомиться со вновь прибывшими офицерами и в ожидании будущих благ пьянствовать с ними. Мрачная, отвратительная перспектива. А если, паче чаяния, привезет эту ленивую колдунью свободу? О, какая радостная, какая светлая перспектива! Иду в укрепление и, на всякий случай, упакую в чувал (торба) мою мизерию, авось либо и совершится.
28 [июня]
Совершилось, только совершенно не то, чего я ожидал. А совершилась мерзость, которую нельзя было предполагать даже в совершителе ее, мерзавце Кампиньони. Пошел я вчера в укрепление, во ожидании парохода, паковать свою мизерию. И как это обыкновенно бывает, когда человек ожидает чего-нибудь хорошего, то на этом хорошем и хорошие строит планы. Так и я, во ожидании вестника благодатной свободы, развернул ковер-самолет, и еще одна, одна только минута, и я очутился бы на седьмом Магометовом небе. Но, не доходя укрепления, [встретился] мне посланный за мною вестовой от коменданта. «Не пришел ли пароход?» – спрашиваю я у вестового. «Никак нет», – отвечает он. «Какая же встретилась во мне надобность коменданту?» – спросил я сам себя и прибавил шагу. Прихожу. И комендант, вместо всякого приветствия, молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту таинственную бумагу как несомненную вестницу свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том, что я в нетрезвом виде наделал ему дерзости матерными словами. В чем свидетельствуют и вновь прибывшие офицеры. И в заключении рапорта он просит и требует поступить со мной по всей строгости закона, то есть немедленно произвести следствие. Я остолбенел, прочитавши эту неожиданную мерзость. «Посоветуйте, что мне делать с этой гадиной?» – спросил я коменданта, придя в себя. «Одно средство, – сказал он, – просите прощения или, по смыслу дисциплины, вы арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали». «Я приму присягу, что это неправда», – сказал я. «А он примет присягу, что правда. Он офицер, а вы все еще солдат». У, как страшно отозвалось во мне это, почти забытое, слово. Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился просить прощения. Простоял я в передней у мерзавца битых два часа. Наконец, он допустил меня к своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прошений, унижений даровано мне было прощение с условием сейчас же послать за четвертью водки. Я послал за водкой, а он пошел к коменданту за рапортом. Принесли водку. А он принес рапорт и привел своих благородных свидетелей.
«Что, батюшка, – сказал один из них, подавая мне пухлую, дрожащую с похмелья руку, – вам не угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас заставили». На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть-чуть не проговорил: мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы.
29 [июня]
«Широкий бытый шлях из Раю, а в Рай узенька стежечка, та й та колючим терном поросла», – говори[ла] мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл которой я теперь только вполне разгадал.
Пароход из Гурьева пришел сегодня и не привез мне совершенно ничего, ни даже письма. Писем, впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой отвратительной конуре. О мои искренние, мои верные друзья! Если бы вы знали, что со мною делают на расставаньи десятилетние палачи мои, вы бы не поверили, потому что я сам едва верю в эти гнусности. Мне самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И что значит эта остановка? Никак не могут себе ее растолковать. Мадам Эйгерт от 15 мая из Оренбурга поздравляет меня с свободой. А свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке гуляет. И это верно, верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, ученьями, картами и пьянством проклажаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный в солдаты за мошенничество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов, и правилам военной службы.
На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю. А все это делает со мною ветреница надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и достойного секретаря его.
Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира. Великий в христианском мире праздник. А у нас колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.