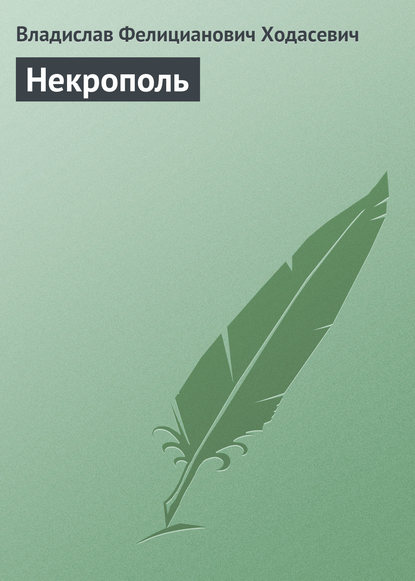Полная версия
Возвращение Будды. Эвелина и ее друзья. Великий музыкант (сборник)
Я назвал себя и спросил, не может ли он объяснить мне, где я нахожусь и почему я сюда попал.
– Вы находитесь в здании предварительного заключения.
– В здании предварительного заключения? – повторил я с изумлением. – Но по какому поводу?
– В ближайшем будущем вам, вероятно, будет предъявлено соответствующее обвинение – какое именно, я не знаю.
В световом прорезе, почти задевая его крылом, медленно пролетела огромная птица с голой шеей. Ее появление здесь и ответы моего собеседника показались мне настолько неправдоподобными, что я спросил:
– В какой стране все это происходит?
– Вы находитесь на территории Центрального государства.
Почему-то я нашел этот ответ удовлетворительным; вероятно, это объяснялось тем, что действие наркоза еще не окончательно прошло. Я встал с некоторым усилием, сделал несколько шагов, приблизился к просвету, явно заменявшему окно, – и невольно отшатнулся: он выходил во двор, и камера была на необыкновенной высоте, вероятно, тридцатого этажа. Против дома, отделенная от него расстоянием в сорок или пятьдесят метров, возвышалась сплошная стена.
– Бегство отсюда невозможно, – сказал мой сосед, следивший за каждым моим движением.
Я кивнул головой. Потом я сказал ему, что отказываюсь понимать, почему я сюда попал, что не знаю за собой никакой вины и что все это мне представляется совершенно абсурдным. Затем я спросил его, за что он арестован и что ему грозит. Тогда он первый раз улыбнулся и ответил, что в данном случае речь идет о явном недоразумении и что ему лично не угрожает никакое наказание.
– А что именно случилось с вами? – спросил он.
Я подробно рассказал ему о тех малоубедительных фактах, которые так неожиданно привели меня сюда. Он попросил меня сообщить ему еще некоторые данные из моей биографии и, выслушав меня до конца, сказал, что он вполне удовлетворен моими объяснениями и что он ручается за мое освобождение. Мне должно было показаться, что такое заявление со стороны оборванного арестанта звучит по меньшей мере странно. Но я принял его всерьез; мои аналитические возможности еще не вернулись ко мне.
Через некоторое время дверь камеры отворилась, и два вооруженных солдата, один из которых прокричал мою фамилию, повели меня по длинному коридору с розовыми стенами и многочисленными поворотами. На каждом повороте висел громадный, все один и тот же, портрет какого-то пожилого бритого человека с лицом, напоминавшим лицо среднего мастерового, но с неестественно узким лбом и маленькими глазами. На человеке этом было нечто среднее между пиджаком и мундиром, увешанное орденами, якорями и звездами. Несколько статуй и бюстов этого же мужчины были расставлены вдоль стен. Мы дошли наконец – в полном безмолвии – до двери, через которую меня втолкнули в комнату, где за большим столом сидел немолодой человек в очках. Он был в каком-то странном, полувоенном-полуштатском костюме, напоминавшем по покрою тот, который был изображен на портретах и статуях.
Он начал с того, что вынул из ящика стола огромный револьвер и положил его рядом с пресс-папье. Затем, резким движением подняв голову и глядя на меня в упор, он сказал:
– Вам, конечно, известно, что только чистосердечное признание может вас спасти?
После длительной ходьбы по коридору – солдаты шли скорым шагом, и я должен был идти с такой же быстротой – я чувствовал, что почти полуобморочное состояние, в котором я до сих пор находился, сменилось наконец чем-то более нормальным. Я опять ощущал свое тело так, как всегда, то, что было перед моими глазами, я видел совершенно ясно, и теперь для меня было очевиднее, чем когда-либо, что все происходящее со мной – результат явного недоразумения. Одновременно с этим тюремная обстановка и перспектива произвольного допроса казались мне раздражающими. Я посмотрел на сидящего человека в очках и спросил:
– Простите, пожалуйста, кто вы такой?
– Здесь вопросов не задают! – резко ответил он.
– В этом есть какое-то противоречие, – сказал я. – Мне показалось, что в вашем голосе, когда вы обратились ко мне, зазвучала явно вопросительная интонация.
– Поймите, что речь идет о вашей жизни, – сказал он. – Диалектикой заниматься теперь поздно. Но, может быть, вам полезно будет напомнить, что вы обвиняетесь в государственной измене.
– Ни более ни менее?
– Ни более ни менее. И не стройте себе никаких иллюзий: это – страшное обвинение. Повторяю, что только полное признание может вас спасти.
– В чем же выражается моя государственная измена?
– Вы имеете наглость это спрашивать? Хорошо, я вам скажу. Государственная измена заключается уже в том, что вы считаете возможным допускать преступный принцип законности псевдогосударственных идей, которые противоречат великой теории Цент рального государства, выработанной лучшими гениями человечества.
– То, что вы говорите, настолько нелепо и наивно, что на это как-то неловко отвечать. Я хотел бы только вам заметить, что возможность допущения того или иного принципа есть теоретическое положение, а не факт, в котором можно обвинять человека.
– Даже здесь, в трибунале центральной власти, вы говорите таким языком, в котором каждое слово отражает вашу преступность. Прежде всего, представитель власти, а в частности следователь, для вас непогрешим и ни одно из его выражений не может быть названо ни наивным, ни нелепым. Но дело не только в этом, хотя теперь, после того, что вы сказали, ваша вина усугубляется еще одним пунктом: оскорбление представителей центральной власти. Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре на жизнь главы государства и, наконец, в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории.
– Кто такой Эртель?
– Человек, которого вы убили. Не пытайтесь этого отрицать: центральной власти известно все. Полное сознание – это последний жест, который вы можете сделать и которого от вас ждет государство и общественное мнение всей страны.
– Единственное, на что я могу ответить, касается Эртеля. Этот человек был наемным убийцей. Я находился в состоянии законной самозащиты. Эртель, по-видимому, никогда до тех пор не имел дела с людьми, которые привыкли защищать свою жизнь, и его неловкость его погубила. Что же касается остальных обвинений, то это невежественный вздор, очень дурно характеризующий умственные способности того, кто его выдумал.
– Вы будете жестоко раскаиваться в ваших словах.
– Обращаю ваше внимание на то, что глагол «раскаиваться» составляет неотъемлемую часть понятий явно религиозного происхождения. Мне было странно его слышать в устах представителя центральной власти.
– Что вы скажете во время очной ставки с вашими сообщниками?
Я пожал плечами.
– Довольно! – сказал он и выстрелил из револьвера: пуля вошла в стену метра на полтора выше моей головы.
Дверь отворилась, и те же солдаты, которые привели меня, вошли в комнату.
– Отведите обвиняемого в камеру, – сказал следователь.
Только тогда, возвращаясь в камеру, взглядывая время от времени на портреты и статуи, я подумал, что действовал неправильно и не должен был отвечать следователю так, как я отвечал. Мне надо было просто доказывать ему, что я никак не могу быть тем, за кого он меня принимает. Вместо того чтобы занять именно эту позицию, я говорил с ним так, точно принимал какую-то абсурдную законность его аргументации и, не будучи с ней согласен, так сказать, диалектически, я все-таки оставался в том же плане, что и он. Вместе с тем было очевидно, что я был совершенно чужд миру, в который я попал. Лица конвоировавших меня солдат отражали полное отсутствие какой бы то ни было мысли или какого бы то ни было душевного движения. Портреты были похожи на олеографии, выполненные мастеровым, которого художественное убожество невольно вызывало жалость и презрение; статуи были такими же. То, что говорил мне следователь, носило печать такой же свирепой умственной нищеты, и в мире, из которого я пришел, подобный человек не мог бы занимать никакого места в судебном аппарате.
Вернувшись в камеру, я собирался рассказать о допросе моему соседу, но меня тотчас же увели опять, на этот раз в другом направлении, и я попал ко второму следователю, который обращался со мной несколько иначе, чем первый.
– Нам известно, – сказал он, – что мы имеем дело с человеком сравнительно культурным, а не простым наемником той или иной политической организации, которая нам враждебна. Вы знаете, что мы окружены врагами и это вынуждает нас к сугубой осторожности и заставляет нас иногда принимать меры, которые могут показаться слишком крутыми, но которых не всегда удается избежать. Именно так произошло с вами. Мы знаем, или, во всяком случае, хотим надеяться, что ваша вина меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Будьте откровенны с нами, это и в ваших, и в наших интересах.
По тому, как он говорил, было понятно, что он, конечно, гораздо опаснее первого следователя. Но я был почти рад этому: с ним можно было разговаривать другим языком.
– Я понимаю ваше раздражение во время первого допроса, – продолжал он. – Произошла ошибка, чрезвычайно досадная: следователь, к которому вы попали, обычно ведет только самые простые дела, хотя неизменно стремится к вещам, явно превышающим его компетенцию. Он, видите ли, выдвинулся по партийной линии, к нему нельзя предъявлять особенно строгих требований. Но перейдем к делу. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?
– Я хотел бы знать, – сказал я, – за кого меня принимают. Для меня очевидно, что все происходящее сейчас – результат недоразумения, которое мне хотелось бы выяснить. Моя фамилия, – я назвал свою фамилию, – такая-то, я живу в Париже и учусь в университете, на историко-филологическом факультете. Я никогда – как это легко установить при самом поверхностном следствии – не занимался политической деятельностью и не состоял ни в какой политической организации. Обвинения в том, что у меня были какие-то террористические намерения, настолько абсурдны и произвольны, что останавливаться на них я не считаю нужным. Я допускаю, что человек, за которого меня принимают, мог быть и террористом, и вашим политическим противником. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я надеюсь, что ваш государственный аппарат окажется все-таки достаточно рационально организованным, чтобы это установить.
– Стало быть, вы утверждаете, что Розенблат ошибся? Если так, то дело принимает для вас действительно трагический оборот.
– Кто такой Розенблат? Я впервые слышу эту фамилию и никогда не видел этого человека.
– Я должен сказать, что вы сделали все, чтобы никто и никогда его больше не увидел: вы его задушили.
– Позвольте, полчаса тому назад мне сказали, что его фамилия была Эртель.
– Это ошибка.
– Как, опять ошибка?
– Я никогда не ценил Розенблата, я лично, – продолжал следователь. – Когда вы назвали его наемным убийцей, вы были недалеки от истины. Несчастье заключается в том, что он был единственным, кто мог вас спасти. Вы лишили его этой возможности. У нас лежит его секретный рапорт о вас и о вашей деятельности. Приведенные там сведения слишком подробны и точны, чтобы быть вымышленными. К тому же этот человек был абсолютно лишен фантазии.
– Очень может быть, что сведения, которые заключаются в его рапорте, совершенно точны. Но единственное и самое важное соображение в данном случае – это что речь идет о ком-то другом, а не обо мне.
– Да, но как это доказать?
– Этот человек, в частности, не мог быть похож на меня, как близнец. Кроме того, он носил, я полагаю, другую фамилию. Есть, наконец, отличительные признаки: возраст, цвет волос, рост и так далее.
– Рапорт Розенблата, весьма обстоятельный во всем другом, не содержит, к сожалению, именно этих указаний. Кроме того, строго говоря, почему я должен верить вам, а не ему?
– Вы можете не верить мне. Но нет ничего проще, как навести справки в Париже.
– Мы всячески избегаем контакта с иностранной полицией.
Я начинал понимать, что мое положение безвыходно. Судебный аппарат Центрального государства отличался полным отсутствием гибкости и какого-либо интереса к обвиняемому; функции его были чисто карательными. Тот примитивизм, который характерен для всякого правосудия, здесь был доведен до абсурда. Существовала одна схема: всякий попадавший в суд обвинялся в преступлении против государства и подлежал наказанию. Возможность невиновности обвиняемого теоретически существовала, но ею надлежало пренебрегать. По-видимому, в моих глазах отразилось нечто похожее на отчаяние, потому что следователь сказал:
– Боюсь, что доказать ошибку у вас нет материальной возможности. Тогда вам остается или упорствовать в бесплодном отрицании и тем самым умышленно идти на смерть, или подписать признание и примириться с тем, что вы проведете некоторое время в заключении, после чего вас снова ждет свобода.
– Полагаете ли вы, что обвиняемый должен быть в первую очередь честен?
– Несомненно.
– В таком случае я не могу подписать признание в том, чего я никогда не делал: поступая так, я бы сознательно ввел в заблуждение судебные инстанции Центрального государства.
– Идеологически вы правы. Но вопрос не в этом. Вы вынуждены действовать в пределах ваших возможностей. Они, к сожалению, недостаточно широки, тут я с вами согласен. Определим их еще раз. Полное отрицание вины и возможность высшей меры наказания – с одной стороны. Признание и временное лишение свободы – с другой. Все остальное – теория. Советую вам подумать об этом. Я вызову вас в ближайшее время.
Вернувшись в камеру, я подробно рассказал своему соседу о первом и втором допросе. Он слушал меня, сидя все в той же позе и закрыв глаза. Когда я кончил, он сказал:
– Это легко было предвидеть.
Я еще раз посмотрел на его лохмотья и на небритое его лицо и вспомнил, что этот человек обещал мне освобождение.
– Вы думаете, можно что-нибудь сделать?
– Видите ли, – сказал он, не отвечая, – я знаю эти законы лучше, чем любой следователь. Это, собственно, не законы, это дух системы, а не свод тех или иных положений.
Он говорил так, точно читал лекцию.
– Отсутствие элементарных правовых норм ухудшается еще тем, что рядовые работники судебного ведомства отличаются чудовищной некультурностью и смешивают свои функции с функциями некоего юридического палача. Вы можете разбить их аргументацию и доказать им как дважды два четыре, что они не правы и их обвинительный акт составлен с наивной глупостью, что чаще всего соответствует действительности. Но это не играет никакой роли. Вас все равно приговаривают к наказанию – не потому, что вы виноваты и это доказано, а потому, что так понимаются задания центрального правосудия. Всякое рассуждение в принципе вещь наказуемая и отрицательная. Спор с юстицией – государственное преступление, так же, как сомнение в ее непогрешимости. Существует десяток формул, каждая из которых есть выражение особого вида невежественной глупости; в этот десяток формул втискивается вся многообразнейшая деятельность миллионов и миллионов людей. Бороться против этой системы, которую трудно определить в двух словах…
– Я бы сказал: свирепый идиотизм.
– Прекрасно. Бороться, стало быть, против этого свирепого идиотизма рациональным путем невозможно. Надо действовать иначе. Какие методы борьбы вы применили, когда Эртель-Розенблат хотел вас задушить?
– Те, которым меня научили преподаватели спорта.
– Хорошо. Если бы вы действовали иначе, вас бы уже наверное не было на свете.
– Очень возможно, – сказал я. И я вспомнил тьму, зажим пальцев на моей шее и то, как я начал задыхаться.
– В данном случае, зная, что вы ничего не достигнете ни тем, что вы правы, ни тем, что вы можете это доказать, вы должны действовать другим путем. Я нашел этот путь; мне это стоило очень дорого, но теперь я не боюсь ничего. Мой способ действия непогрешим, и поэтому я обещал вам, что вас освободят. Я еще раз вам это подтверждаю.
– Извините меня, но если вы располагаете таким могущественным средством борьбы, то как могло случиться, что вы оказались там же, где я?
– Я вам сказал уже, что это – недоразумение, – ответил он, пожав плечами. – Меня арестовали ночью, когда я спал.
– Какое же это средство?
Он долго молчал, и губы его беззвучно шевелились, как в первый раз, когда я его увидел. Потом он сказал, не поднимая головы:
– Я гипнотизер. Заключение следователя ему диктую я.
– А если он не поддается гипнозу?
– Такого случая я еще не встречал. Но даже если он не поддается этой форме гипноза, он поддается другой.
– Иначе говоря…
– Иначе говоря, я заставил бы его покончить жизнь самоубийством и дело бы перешло к другому, который бы мне подчинялся.
– Еще одно, – сказал я, удивляясь уверенности, с которой он говорил. – Следователь в ближайшее время вызовет меня, но вас при этом не будет. Вы можете подчинить себе его волю на расстоянии?
– Это было бы значительно труднее. Но нас с вами вызовут почти одновременно.
– Как вы можете это знать?
– Когда вас допрашивал первый следователь, меня допрашивал второй.
Потом этот спокойный человек погрузился в полное молчание, которого не нарушал в течение тех трех дней, что длилось мое ожидание следующего допроса, на котором должны были произойти – если верить ему – такие невероятные события. Два раза в сутки нам приносили пищу, которой я не мог есть сначала, настолько она была отвратительна. Только на третий день я проглотил несколько ложек какой-то светло-серой жидкости и съел кусок плохо выпеченного и упруго-противного хлеба. Я чувствовал себя ослабевшим, но мое сознание оставалось совершенно ясным. Мой сосед за все это время не притронулся к пище. Чаще всего он оставался неподвижным, и было непонятно, как его мускулы и суставы выдерживали это длительное напряжение. Лежа на своей каменной койке, я думал о том, насколько действительность была фантастической и как во всем, что меня окружало, был ясно ощущаемый смысл непроницаемой безвыходности: геометрическая совокупность стен и потолка, заканчивающаяся открытым выходом в тридцатиэтажную пропасть, где то светило солнце, то шел дождь, и постоянное, неподвижное присутствие со мной этого удивительного оборванца. Один раз, чтобы как-нибудь прервать это каменное безмолвие, я начал свистать арию из «Кармен», но мой свист звучал так тускло и дико и был так явно не к месту, что я тотчас же прекратил его. Я успел много раз обдумать во всех подробностях то, что со мной случилось, и констатировать, что, несмотря на несомненное присутствие в этом известной последовательности, соединение тех фактов, которые я восстанавливал в своей памяти, должно было, конечно, показаться совершенно иррациональным. Меньше всего я думал об опасности, которая мне угрожала, и вопреки внешней неправдоподобности того, что обещал мне мой сосед, я верил каждому его слову.
Наконец вечером третьего дня за мной пришли. Я поднялся и ощутил в первый раз за все время необыкновенный холод внутри – быть может, отдаленный страх смерти, быть может, темную боязнь неизвестности. Я знал, во всяком случае, что я лично был лишен возможности защищаться. И я успел подумать о том, насколько все было проще и насколько я меньше был в опасности тогда, в этом темном парижском проходе, когда руки неизвестного убийцы сжимали мне горло. Тогда спасение моей жизни зависело от меня, от элементарного присутствия духа и привычной для меня быстроты движений. Теперь я был беззащитен.
Меня ввели в кабинет следователя. Он предложил мне сесть и дал мне папиросу. Потом он спросил:
– Вы обдумали то, что я вам говорил в прошлый раз?
Я кивнул головой. Ощущение холода внутри непонятным образом мешало мне говорить.
– Вы подпишете ваше признание?
Мне потребовалось сделать над собой необыкновенное усилие, чтобы ответить на вопрос следователя отрицательно. Вместе с тем я знал, что только слово «нет» могло меня – может быть! – спасти. Мне казалось, что у меня не хватит сил произнести его, и я понял в эту секунду, почему люди сознаются в преступлениях, которых они не совершали. Все мускулы моего тела были напряжены, лицо мое налилось кровью, у меня было ощущение, что я поднимаю огромную тяжесть. Наконец я ответил:
– Нет.
И после этого все сразу ухнуло передо мной, и мне показалось, что я теряю сознание. Но я явственно услышал голос следователя:
– Нам удалось выяснить, что ваши показания, довольно убедительные на первый взгляд – это отягчает вашу вину, – ложь. Тот, кто был вашей правой рукой в организации, которую вы возглавляли, выдал вас и подписал полное признание.
Я вдруг сразу почувствовал себя легче. Но у меня было впечатление, что мой голос звучал очень неуверенно.
– Ни человека, ни организации, о которых вы говорите, никогда не существовало. Ваша система обвинения абсурдна.
И в это время дверь открылась и солдаты ввели моего соседа по камере. Потом они удалились. Я быстро посмотрел на него; мне показалось, что он сразу стал выше ростом.
– Вы не будете отрицать, что узнаете этого человека? – спросил следователь.
– Узнаю.
Он явно хотел еще что-то прибавить, но удержался. Наступило молчание. Он встал со своего кресла и сделал несколько шагов по комнате. Затем он подошел к окну и отворил его. Потом он зигзагами вернулся к своему месту, но не сел, а остался стоять в неестественной и неудобной позе полусогнутого человека. У меня было впечатление, что с ним происходит нечто необъяснимое и тревожное.
– Вы плохо себя чувствуете? – спросил я. Он не ответил. Человек в лохмотьях пристально смотрел на него, стоя неподвижно и не произнося ни слова.
Следователь опять подошел к окну и высунулся из него наполовину. Потом он сел наконец за стол и начал писать. Несколько раз он рвал листы бумаги и бросал их в корзину. Это продолжалось довольно долго. Лицо его покрылось каплями пота, руки дрожали. Затем он встал и сказал сдавленным голосом:
– Да. Я понимаю, что вы стали жертвами чудовищной ошибки. Я обещаю вам, как вы того требуете, произвести по этому поводу строжайшее расследование и жестоко наказать тех, кто в этом виноват. Центральная власть в моем лице просит вас принять ее извинения. Вы свободны.
Он позвонил. Вошел офицер в голубом мундире. Он передал ему пропуск, мы вышли из кабинета и опять углубились в бесконечные переходы и коридоры, стены которых были густо увешаны все теми же картинами, и получалось впечатление, что мы идем вдоль какого-то портретного строя полуофицеров-получиновников, многочисленных и одинаковых. Наконец мы дошли до огромных ворот, которые беззвучно распахнулись перед нами. Тогда я повернул голову, чтобы обратиться к моему спутнику, но чуть не остановился от изумления. Человека в лохмотьях больше не было. Рядом со мной шел высокий бритый мужчина в прекрасном европейском костюме, и на его лице была насмешливая улыбка. Когда ворота так же бесшумно затворились за нами и раньше, чем я успел сказать слово, он сделал мне приветственный жест рукой, повернул направо и исчез. Сколько я ни искал его глазами, я не мог его найти.
Был душный летний вечер, на улицах горели фонари, гудели проезжавшие автомобили, зажигались зеленые и красные огни на перекрестках. Испытывая счастливое чувство свободы, я думал одновременно о том, что я буду делать в этом чужом городе чужой страны, где я никого не знаю и где у меня нет пристанища. Но я продолжал идти. Автомобильное движение стало затихать. Я перешел неширокую реку по мосту, с обеих сторон которого были огромные статуи русалок, потом пересек какой-то бульвар и начал подниматься по улице, отходившей оттуда несколько вкось. Там уже было совсем тихо. Я прошел так двести или триста метров. На повороте этой улицы, за которой шла другая, вся застроенная одноэтажными или двухэтажными особняками, неяркий фонарь освещал металлическую синюю дощечку, прибитую к стене. Я подошел к ней вплотную – и тогда с удивительной медленностью, точно из далекого сна, белые буквы латинского алфавита, сначала совершенно расплывчатые, потом затвердевающие и становящиеся все более и более отчетливыми, возникли перед моими глазами. Они появились, затем стали мутными и снова расплылись, но через секунду появились опять. Я вынул папиросу и закурил, обжигая себе пальцы спичкой, – и только тогда я понял счастливую последовательность этих знаков. На синей таблице белой краской были выведены слова: 16 Arr-t. Rue Molitor.
Я давно привык к припадкам моей душевной болезни, и в том, что у меня оставалось от моего собственного сознания, в этом небольшом и смутном пространстве, которое временами почти переставало существовать, но в котором все-таки заключалась моя последняя надежда на возвращение в реальный мир, не омраченный хроническим безумием, – я старался стоически переносить эти уходы и провалы в чужое или воображаемое бытие. И все-таки каждый раз, когда я оттуда возвращался, меня охватывало отчаяние. В невозможности победить этот необъяснимый недуг было нечто вроде сознания своей обреченности и какого-то нравственного увечья, которое делало меня не похожим на других, точно я не заслуживал общедоступного счастья быть таким же, как все. В тот вечер, когда я прочел эти буквы на синей дощечке, после нескольких секунд радости я испытал нечто похожее на тягостное чувство человека, которому еще раз был подтвержден неумолимый диагноз. Вечерний Париж показался мне иным, чем всегда, и, конечно, не таким, каким он был, и эта перспектива фонарей и листьев, освещенных фонарями, только оттеняла с трагической убедительностью ту непоправимую печаль, которую я ощущал. Я думал о том, что мне предстоит в будущем и как сложится моя жизнь, мое подлинное существование, которое мне было так трудно нащупать и отыскать в этой массе болезненных искажений фантазии, преследовавших меня. Я не мог довести до конца ни одной задачи, требующей длительного усилия или для разрешения которой была необходима известная и непрерывная последовательность. Даже в мои отношения с людьми всегда входил или всегда мог войти тот элемент бредового затмения, которого я мог ожидать каждую минуту и который искажал все. Я не мог быть целиком ответственен за свои поступки, не мог быть убежден в реальности происходившего, мне нередко было трудно определить, где кончается действительность и где начинается бред. И теперь, когда я шел по Парижу, этот город казался мне не более убедительным, чем столица фантастического Центрального государства. Я начал свое последнее путешествие именно с Парижа; но где и когда я мог видеть нечто похожее на тот воображаемый лабиринт, куда меня повлекло властное движение моего безумия? Реальность этого прохода была, однако, предельна, и я помнил его поворот и эти непонятные углубления его стен не менее ясно, чем все дома улицы, на которой я действительно жил в Латинском квартале. Я знал, конечно, что улица существует, а проход возник только в моем воображении; но эта бесспорная разница между улицей и проходом была лишена для меня той каменной и неподвижной убедительности, которую она должна была иметь.