
Полная версия
Варенье из падалицы

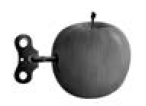
Алексей Алёхин
Варенье из падалицы
Все эти выпавшие из записных книжек строчки и фрагменты норовили стать если не стихами, то, на худой конец, хоть прозой. Они вроде падалицы, не поспевшей в настоящие яблоки.
В детстве у нас на даче варили из падалицы чудесное варенье.
Вот только я забыл спросить рецепт.
© Алёхин А., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
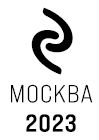
1968
С тех пор как люди изобрели очки, приходится вспоминать, куда ты их засунул.
Такой гуманист, что жалел даже милиционеров на перекрестке.
Подслушал, как один работяга пересказывает другому содержание «Сказки о царе Салтане». При этом оба сидят орлом в соседних отсеках заводского сортира.
Поздно вечером в дверь позвонил мужик в черном флотском кителе без нескольких пуговиц, представился подводником и попросил одолжить… трусы.
От обращения «девушка» свечкой пахнет.
1969
Пеньков-Веревкин.
Ночью ему приснилась лошадь с педалями.
Развелось столько умных, что обыкновенная глупость выглядит проявлением своеобразия.
– Идем мы, значит, с Мишкой мимо фонтана, что позади Пушкина Мишка мордой сияет весь франт такой в клеша́х и батничке только гвоздички в петлице не хватает клеши белые а фонтан отключен воды нет только грязь на дне жидкая а у бортика гранитного мальчик маленький с мамашей ревет машинку туда забросил пластмассовую грошовую а мамаша выпуклая такая молодая блондиночка помогите ребята ну Мишка джентльмен детей любит да и на мамашу косит раз-два на бортик стал нагнулся игрушку подцепил ну и поскользнулся жопой в грязь вылезает чучело чучелом весь капает мамаша мальчики мальчики спасибо большое вот платочек вытереться из сумочки достает беленький кружевной с ладошку а какой там платочек у Мишки вся задница и спина он ее матом платочек на землю плюнул ногой растер а мальчонка хохочет дяденька еще еще мамаша его за руку да скорей от греха подальше а мы газировкой Мишку отмывать так и не попали в кино…
Ей часто звонили домой и с сильным английским акцентом спрашивали «мистера Стоковского». Когда ей надоедало объяснять ошибку, отвечала, что он здесь редко появляется, разве зайдет случайно. Иногда о нем осведомлялись на английском. В очередной такой раз она рявкнула в трубку: «I don’t understand!», на что последовало на чистом русском:
– Чего?..
Пойти на бульвар и прижать к сердцу родную чугунную завитушку ограды.
– Девушка, девушка, – молоденький лейтенант спотыкается на сходе с эскалатора и устремляется за ней по перрону, – выходите за меня замуж! Да не шучу я. Встретимся завтра, в 10 утра, у ЗАГСа. У меня отец большой генерал, он все устроит, чтоб сразу. Мне послезавтра в Монголию на два года. Сдохну я там без жены!..
Срединная площадка бульвара обратилась в снежную целину, и пробираться туда пришлось по узкой тропке. Пушистые скамейки, выстроившиеся кольцом вокруг сугроба на месте клумбы, напоминали лагерь храброго Яна Жижки из школьного учебника. И чтобы усесться на одну из них, надо было вперед разгрести в ней нишу.
– Я тут намедни сгоряча промолчал…
1970
В дневное время едва освещенный дежурной лампочкой буфет Большого театра заполнен перекусывающими меж репетиций артистами – кто в халате, кто в трико, перевязанном на пояснице шалью, кто в каких-то бинтах, кто чуть ли не в исподнем, но с накинутой на плечи гусарской тужуркой потускневшего золотого шитья.
За огромной дубовой стойкой буфетчица болтает с костлявой балериной в выцветшем голубом халате. Положив перед собой кошелек, та отхлебывает из чашки кофе, а ее левая нога, задранная высоко назад, терпит в руках усердно разминающего ее массажиста.
По желтоватому проходу рабочий в фартуке катит к буфету тележку с поленницей балыков.
В красноватом сумраке кабинета, позолоченном далекими звуками оркестра, сидел маленький сухонький балетмейстер в большом халате.
– Мам, а Еву с Адамом из рая выгнали за то, что немытые яблоки ели?
Единственным предметом роскоши в его спартанском жилище был арабский, красной кожи с золотым тиснением пуф.
Толстые витые шнуры, перетягивающие его, глубоко вреза́лись в тугую кожу, отчего он весь казался расчлененным на дольки, вроде очищенного мандарина.
Пуф этот был куплен года полтора назад. Он увидел его в большом универсальном магазине, куда зашел погреться. Долго ходил вокруг, любовался и прикидывал, как удобно было б, сидя на таком, читать, привалившись спиной к стене.
С получки поехал в магазин, купил пуф и привез к себе на квартиру – тогда он снимал квадратную комнату с пожелтелыми обоями на втором этаже провонявшего кухней деревянного дома на 3-й Тверской-Ямской. Из мебели кроме пуфа там была большая железная кровать, круглый стол без скатерти и стул.
С тех пор при каждом очередном переезде – в среднем раз в четыре месяца – пуф оставался у хозяев в заложниках. Но после выкупался. И он ехал с ним через город в новое жилище, что было весьма удобно: дорогой можно было присесть на него в переполненном транспорте.
Приметив в позднем, полупустом вагоне метро хорошенькую девушку, элегантный грузин средних лет с пронзительными глазами поднялся с места, перешел вагон и уселся напротив. При этом он распахнул и запахнул полы черного пальто, точно расправил крылья.
Англосаксы, ожидающие в Москве увидеть Азию, и монголы, мечтающие повстречаться тут с Европой.
О своем детстве он рассказывал: «Всего обидней, когда у тебя, заснувшего днем, вынимают из-под уха подушку. Не со злости, а просто забирают – чтоб самому прилечь. А ты остаешься лежать головой на твердом плоском диване. И когда потом просыпаешься и понимаешь, что над тобой сделали, тебе хочется плакать».
Так жить – это как завтракать холодными творожниками, глядя в кухонное окно на заснеженную улицу.
Под гипсовым небом актовых залов.
Большая черная с проседью собака стоит в проходном дворе, уставившись в снег.
Идущая через двор женщина останавливается, достает из сумки пачку сахара, надрывает край и протягивает псу два куска.
Тот делает шаг, берет их, не подняв глаз, у нее с руки, возвращается на прежнее место и снова принимается смотреть в одну точку.
Женщина, вздохнув, прячет пачку обратно в сумку и отправляется своей дорогой.
Это был чрезвычайно жизнерадостный молодой человек – закуску он называл разминкой.
И улыбнулась такой улыбкой, что подумалось: а ведь может укусить.
Свое писательское бессилие он ощущал словно тяжелую болезнь. И подробно описывал ее, во всех проявлениях и муках. Втайне надеясь, что в этих-то описаниях как раз откроется его сила…
«Ложкой моря не вычерпать». Ну а вычерпаешь – куда воду-то выливать? Вот и будет снова море.
Ревновал даже к шарфику, скрестившему руки у нее на шее.
Культработник сталинской эпохи.
Всю жизнь прожил дурак дураком. Так и умер – не приходя в сознание.
Фирменные бутерброды в этой пивной сооружались так: на большом ломте черного хлеба пять-шесть серебристых килек веером, а поверх хвостов, чтоб их прикрыть, бело-желтый кружок из вареного яйца. Все вместе походило на исходящее лучами солнце, и потому именовалось: бутерброд «Восход».
У него было удивительное свойство: любая женщина, с которой он шел по улице, или разговаривал, или просто оказался рядом в троллейбусе, – казалась его подругой и любовницей.
Когда он вдруг умер, множество женщин подумали: «Это из-за меня».
Больничное помещение было поделено стеклянными перегородками на одинаковые отсеки, так что, войдя в один из них, он принял стекло за зеркало и вздрогнул, не обнаружив там своего отражения.
– Ну а работаешь-то где?
– В почтовом ящике.
– А-а, газеты разносишь…
Был до того влюблен, что сердце замирало от любого слова с женским окончанием: «пришла», «видела», «устала»…
Простое счастье дачной электрички, переполненной цветами.
Поганки в белых кружевных панталончиках.
За остановку поезда стоп-краном потребовали штраф 25 рублей. Протягивает сотенную. Нет сдачи.
– Ну ладно, я еще три раза остановлю.
По ночам ходил под окна родильного дома слушать крики рожениц.
– Нужна она мне, как твоей бабушке водолазный костюм!
Да он сам себе велосипед.
Сладкий ресторанный тенор улыбнулся в зал и запел что-то вроде:
Бумажные цветынедорогих романсов,любимая моя,прими из белых рук…Овладев женщиной, ощущал себя, точно овладел миром.
Город Краснобайск.
– А правда, что английская королева курит «Приму»? Только из какого-то особого цеха, не то что мы?..
С таким злым выражением глаз, каким отличаются разве что школьные учительницы младших классов.
Под часами прохаживался мужчина лет пятидесяти с безобразным багровым шрамом на лице и с удивительной красоты осенним букетом в руке.
Лица японок – белые и неподвижные, как молоко в плоских фарфоровых чашках.
Это была редкостно красивая женщина. Той крайней, бросающейся в глаза мерой красоты, когда та уже граничит с пороком. И в разные минуты, в зависимости от настроения и выражения глаз, она казалась то по ту, то по эту сторону черты.
«У бабушки моей была горничная. Очень бабушку уважала. Когда родилась мама, у бабушки было так много молока, что оставалось. И горничная с ним чай пила: не могу, говорит, чтоб барское молоко пропадало».
1971
У старого актера в его квартире на Чистых прудах часто собиралась молодежь: актеры, художники, просто барышни.
Однажды посреди такой ассамблеи он встал, обвел всех взглядом:
– Надоели вы мне все, ну вас на хер!
Вышел в соседнюю комнату – и умер.
Швейцар презрительно отвернулся, показав камергерскую спину.
Кошмарная джульеттина любовь.
Музейный экскурсовод обладал удивительным даром говорить готовыми формулами. О писателе-земляке, например: «Это большой, жизненный, близкий народу талант». К экскурсантам-колхозникам обращался не иначе как «труженики полей».
Переводчик беззвучно, как рыба, шевелил толстыми губами на ухо послу.
Майор Кегебешкин.
– Ты мне в сыновья годишься!.. – Помолчав, прикинув: – В старшие!
У нас что ни дождь, так хождение по водам…
Вот и марсианские арки Курского вокзала посносили.
Рафаэль
Вагонные двери открылись, на мгновение стало тихо, и я услышал, как, входя за мной следом, он пробормотал: «Карету мне, карету!.. хотя какая карета… метро…» Я оглянулся на эксцентричного старичка, тот заметил и тут же ко мне подсел. И сразу быстро заговорил, жестикулируя.
– Сделал портрет Есенина тридцать пять на сорок. Продал. Лицо вот такой высоты, – он показал пальцами. – Маслом. На грунтованном картоне. Картон в художественных салонах по 10 копеек штука. На 25-го Октября салон, на Петровке возле Пассажа салон, на Кутузовском тоже салон, – он загибал пальцы. – Пятнадцать рублей просил, дал тринадцать. Черт с ним, двух рублей не жалко. Хороший портрет. Глаза синие. Волосы желтые. Сосед мой посмотрел – он пьет, правда, – это, говорит, кто – Пушкин? Ты, говорит, кто: Рафаэль? Рубенс? Леонардо да Винчи? (Это художник знаменитый, итальянец.) Ты, говорит, Сур-гуч-кин! Ты по цветным открыткам намастырился! (Он пьет, правда, сосед мой, плохо видит.) Ты, говорит, в газетном киоске покупаешь портреты по пятачку. Киноартистов. Цветными карандашами перерисовываешь. С натуры рисуй, с на-ту-ры! Репин! Рафаэль! Тебя в художественном училище надо лет пятнадцать учить. Господь с тобой, говорю, мне уж шестьдесят пять, станет восемьдесят. Я и не доживу. А для меня это… этим и дышу только. На пенсии я. Вот Аиду нарисовал, Софи Лорен. «Аида» – опера. Софи Лорен не поет, только шевелит губами, – старичок показал, как она шевелит. – Это в кино бывает…
– Та-та-та-та… – я попытался изобразить марш из «Аиды».
– Вот-вот! – Старичок обрадовался. Он был сухонький, желтенький, чистый такой старичок. В коричневом пальто длинном. Весь немного заштопанный, потертый немножко, но опрятный. А он продолжал говорить:
– …Аида – она служанка у фараона. В Эфиопии где-то. В золотом колье, – он изобразил руками колье, – и в серьгах. Лицо такое выразительное, волосы на затылок, вот так. Сосед мне говорит: «Тебе лучше в зоопарке рисовать – бегемотов, жирафов, слонов. У жирафа шея пять метров, нарисуешь шесть – не придерется никто, с метром не пойдет мерить. То же слон. На полметра длиннее хобот, на полметра короче… А то смотри, милиция заберет за искажение, за халтуру. Рафаэль! Репин! Фамилию смени, Сур-гуч-кин!»
Я Рафаэля портрет написал. Соседа привел. Смотрю на портрет и говорю: «Рафаэль! Ревную тебя к твоему таланту!» Сосед мой рассердился: «Как смеешь!» Но он, правда, пьет, плохо видит. А я от души. Рафаэль был флорентиец. В тридцать семь умер. Ему папа Пий, не то Девятый, не то Восьмой, велел портрет написать. Но папа жестокий был, и лицо жестокое, а велел добрым изобразить. И Рафаэль его написал мягким, добрым. «Это, – говорил, – не тот папа, какой есть, а тот, каким должен быть!» Я книжку читал. – И старичок изобразил, как этот папа сидит у Рафаэля…
Я встал выходить на своей станции. Старичок схватил меня за руку:
– Я чертежник был по профессии. Но в этом вся моя жизнь – вся жизнь!
Ресторан «Вечерний араб».
Драматург Навозный-Жижин и театральный рецензент Стаканов. Хорошая парочка.
К деду, продающему на Птичьем рынке чижа, пристал мальчишка:
– А он, дедушка, поет?
– Поет, поет. А четвертинку поставишь, так и ногой притопывает!..
Залитая солнцем площадь была полна счастливых женщин.
Воробей, этот дервиш среди пернатых…
Мальчик всю дорогу смотрел сквозь круглую дырку в коробочку, где у него сидела белая мышь, и мысленно был там, внутри, с мышкой.
Нинка-матрасик, Тонька – резиновая попка.
В историю вошел и цензор Пушкина…
Сутулые старинные фонари.
После него остался только потертый фрак, коллекция чубуков и полный стол любовной переписки.
Самобытный дурак.
Она умела любить только то, что в пределах видимости.
«В Средние века легко было чертей рисовать – они их на каждом шагу видели, как мы милиционеров…»
Сложные взаимоотношения старушки с автоматом, продающим автобусные билеты.
Черпал вдохновение в утренних газетах.
Из двери вышел мужчина в подтяжках, вытряхнул помойное ведро в мусорный бак – и оттуда выпорхнул голубь. Получилось как у фокусника.
Кастрюльная голубизна неба.
Железные завитушки кроватной спинки наводили на мысль о решетке Летнего сада.
С незагорелыми полосками от сандалий на подъеме маленькой ноги.
Ты спишь, и весь мир лежит на боку…
Для счастья всего-то нужно – цепочная карусель. Вокруг все вертится, и полощутся на ветру легкие женские брючки.
«Кипяточек-то есть, только холодный», – кивнула проводница.
А дальше, за домами, зеленым рулоном раскатывался горизонт.
Свободный человек
Внутри украшенного табличкой «Здесь бывал Лев Толстой» тульского вокзала спят, сидят и лежат на желтых скамьях из толстой гнутой фанеры. У подоконника, поглядывая сквозь широкое стекло то на перрон, то на похрапывающих в зале, расположился небольшой мужичок с приятно крупными чертами лица. В солдатской шапке не по сезону, в распахнутом драповом пальто с обвисшими плечами. Бесформенные брюки аккуратно заправлены в тяжелые казенные башмаки с железными клепками. Зато рубашка щегольская, розовая, с узором.
Стоит, прислонясь к окну, весело смотрит, бросает тому-другому проходящему словцо, каждого примечает, а сам быстро, но аккуратно поедает копченую рыбку, разложенную на бумаге. Тут же и полбатона хлеба: отщипывает мякиш, отслаивает от рыбки длинный ремешок с хвоста, бросает в рот, не проронив ни крошки. И наслаждается свободой.
Поймав мой понимающий взгляд, подмигивает:
– От «хозяина» я… – и показывает, бросив в рот последний кусочек, решетку пальцами.
Свернул замаслившуюся бумагу, кивнул мне напоследок и пошел – приветливо посматривая направо-налево, бросая словечко туда-сюда…
Туман развесил сети…
Все мое детство было отравлено шнурками на башмаках, с вечными их узлами.
Осознанная слабость не слабость уже, а лень.
Жена цензора – вне подозрений.
Лишь ребенок способен, сидя на корточках, беседовать с улиткой. И даже с ее пустым домиком.
От стакана воды со льдом повеяло речным холодом.
Черный, тонкоусый, в белых крагах милиционер-кавказец на перекрестке дирижировал движением, как оркестром.
Волосы у него были промыты так чисто и причесаны так аккуратно, что по пробору пробегал огонек от люстры.
Аристократы Центрального рынка в золотых перстнях.
Редактор грузно нависал над столом, а между тумбами были видны его кокетливо скрещенные ножки в маленьких ботинках.
Власть над вещами женщины проявляют перестановкой мебели.
Ну что ты все плачешь в зеркало!..
1972
Так и ехал по жизни, как в поезде: спиной вперед.
Застекленная касса походила на коробочку, в каких энтомологи хранят свои экспонаты, и кассирша в кружевной наколке сидела в ней, как бабочка на булавке.
Новенькие серебряные крыши райкомов на старых барских особняках.
На тарелку ему положили блин, похожий на Луну в телескоп – весь цирках и кратерах.
«Одна. Две. Три…» – мальчик, стоя в зоопарке перед клеткой с тигром, считает полоски.
Прогуливаясь солнечным днем, он любил наступать на головы теням других прохожих.
С сумраком на лице.
…Пока он рассуждал, легкая тополиная пушинка кружилась вокруг его головы и вдруг ринулась, привлеченная током воздуха, и исчезла у него в ноздре.
Леночка Ягодицына.
«Ой, что это вы со мной такое делаете, что мне с вами так хорошо?!»
Тень облагораживает предметы.
Самая пошлая, заляпанная потеками краски чугунная решетка бульвара отбрасывает витую, изысканную, благородную тень.
Будущие дома стоят в лесах, как в железных авоськах.
Возвращаясь ночной порой по переулку, заглянул в лицо встречному и ужаснулся: меж губ у того сверкнул огонь. И только на другой миг понял, что у того во рту горящий окурок.
Ночной парад
– Это танки? – спросила, проснувшись, жена, когда их рев наполнил комнату и заставил дребезжать стекла.
– Танки.
Я накинул пальто и вышел на улицу. Один за другим, кильватерным строем, они шли по Садовому кольцу от «Павелецкой» – на полночную репетицию парада. Дул холодный ветер, моросил дождь. Я раскрыл зонт.
Я встал там, где Садовая чуть поуже, – здесь танки проходили под светом фонаря. Они шли быстро, непреклонно. В каждом люке торчала голова в шлемофоне. Лиц не разглядеть, но по напряженной неподвижности головы можно было угадать, как они всматриваются в моросящий сумрак.
Свистками, окриками милиционеры согнали в переулок стадо лезущих друг на дружку мокрых легковушек. На тротуарах, где их застала колонна, стояли редкие прохожие, несколько парочек под зонтами. И смотрели, притихшие.
Танки шли по середине Садовой и уходили в туннель.
Я пошел навстречу им, к «Павелецкой», где они появлялись, выворачивая с Зацепского Вала, и шли несколько мгновений прямо на меня. Танки, транспортеры, тяжелые тягачи. Они светили на повороте мне в лицо и будто прибавляли скорость, проносясь мимо. Спереди они были плоско-приземистые, с узкими, как бы прищуренными фарами, казавшимися глазами. Их настоящих глаз – смотровых щелей – я, сколько ни вглядывался, не смог распознать на скрытых тенью черно-зеленых мордах.
Тягачи с короткими толстыми ракетами были чудовищны, но не производили такого жуткого впечатления, как танки. Они не казались одушевленными. А главное, смутно шевелилась мысль, что они не опасны для этого города. Из окон швейной фабрички напротив торчали головы работниц, они тоже смотрели.
Снова показались танки.
Я повернул к дому. В окне первого этажа сидел, свесив ноги с подоконника, парень в свитере, а на улице перед окном стоял его приятель – красивый черноусый мужчина в накинутом на плечи плаще. Он курил и молча смотрел на танки. В глазах его мне почудилась тоска, но может, я сам ее придумал: танки не воспринимались мною как свои. Я вспомнил такое же ощущение осенью 68-го – тогда я застал репетицию возле Пушкинской площади. Я стоял у витрины ВТО, танки шли по широкой и яркой главной улице, кажется, был небольшой туман, и какой-то старик рядом нацелил в их сторону свою трость и сказал: «Паф!»
Колонна прервалась, сразу сделалось гораздо тише. Стало слышно, как в одной из желто-синих милицейских машин офицер что-то орет в рацию вперемешку с цифрами и птичьими именами позывных. Потом вдруг бросил рацию, крикнул водителю «отведи в сторону!» и побежал наперерез откуда-то выскочившим автомобилям, тесня их к обочине. Со стороны «Павелецкой» донесся тяжелый равномерный гул – двигалась новая колонна.
Я вернулся домой, разделся и лег в постель. Жена что-то мне говорила, но я плохо понимал смысл: неведомая сила заставляла меня вслушиваться в то притихающий, то нарастающий до невыносимого грохота рев танков. Он будоражил и вызывал плохо определимую, гнетущую комбинацию чувств. Я зарывался головой в подушку и одеяло, но рев танков находил меня и под одеялом.
«Да я из тебя могу свистков понаделать!»
Трезв, как бутылка нарзана.
На пустынной горной дороге вдруг открылась за поворотом украшенная лепными фруктами и виноградом арка с выпуклой надписью: «Коммунизм неизбежен».
На руку ему легла кружевная тень ее ночной сорочки.
Душа имеет форму тела.
Неправда, что старики равнодушны к моде. Их просторные брюки, круглоносые ботинки, усы и клиновидные бородки – всё по самой последней моде 20-х, 10-х, а то и 90-х годов: в зависимости от возраста.
Тень от носа лежала у него на бледной щеке и, когда он говорил, вздрагивала, как бабочка.
1973
Седой и рыженькая. Его старость простила за молодость ее совсем некрасивое лицо. И оба счастливы.
Терпеть не могу арфу. Булькает.
Откуда-то подул теплый ветер, и зима распустила слюни.
Вагон метро покачивался, свет перемещался, и казалось, что у сидящей напротив женщины бегает по колечку с бриллиантиками голубой и розовый огонек.
Она бросила на него взгляд, легкий, как облачко над вулканом.
Если говорить о необычных ракурсах, то в самом примечательном из них я увидал мир, когда мне было лет одиннадцать и, возясь с ребятами на перемене, я упал на спину и въехал в толпу одноклассниц.
Надо мной во все небо распустились их скрытые обычно от глаз беленькие нижние юбки, в таинственную темноту которых уходили ножки в кремовых чулках.
И мне не хотелось подыматься с пола.
Человек, жующий яблоко, всегда выглядит независимым и счастливым.
Машина с репродукторами прокашлялась и вдруг заорала на всю улицу о правилах перехода.
Металлические крики фазанов.
Сверхчеловеки вечно замахиваются на полмира, а кончают старухой-процентщицей.
С позывами на интеллигентность…
Такое костлявое лицо, что наводило на мысль о конструктивистской архитектуре.
Моральные долги можно отдавать деньгами.
Ветер свистит, как далекие реактивные самолеты.
Любовь к самолетам
Брат с приятелем садились на велосипеды и уезжали «смотреть самолеты» – в Быково, на аэродром. А я оставался на даче, ждать их и страшно завидовать. Меня не брали, потому что на моем детском велосипеде туда не доехать. У них же были «Орленки», подростковые. А потом они возвращались и рассказывали, как низко, в неправдоподобной близи, над ними пролетало грохочущее железо: вон как то дерево, даже нет – как крыша террасы.
Однажды наконец меня взяли: брат посадил на раму. Мы ехали по поселку, потом через железную дорогу, потом по шоссе, через заросшую полынью узкоколейку – и уже над головой пролетали самолеты так низко, как никогда в жизни. И вот уже грунтовая дорога вдоль ограды летного поля, и мы лежим в сухой траве у самой колючей проволоки, и велосипеды брошены рядом. А самолеты, идущие на посадку, проносятся на высоте десять метров, нет – четыре метра, даже ниже, и хочется сорваться и побежать, но ревущий металл уже промелькнул над головой.







