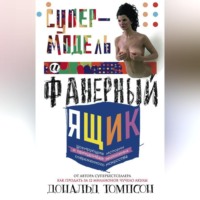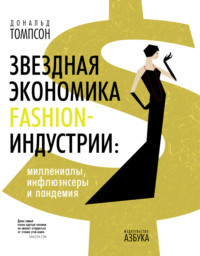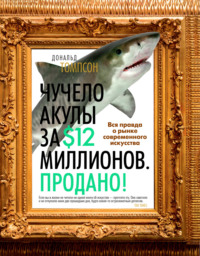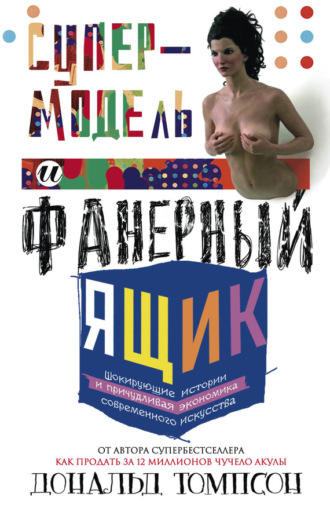
Полная версия
Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства
Психолог Йельского университета Пол Блум рассматривает идею контекста в своей книге 2011 года «Как работает удовольствие» (How Pleasure Works). Он вводит термин «эссенциализм»: скрытая реальность, воздействующая на то, что мы приобретаем, потребляем и от чего получаем удовольствие. Блум приводит примеры психологических экспериментов с манипуляцией фактами, которые сообщают испытуемым, с целью установить, насколько важна роль убеждений о вещи и ее происхождении. Один из экспериментов подтвердил ту мысль, что человек получает больше удовольствия от вещи и платит за нее больше денег, когда считает, что ею владел кто-то знаменитый или хотя бы прикасался к ней. Блум берет менее очевидный пример, чем драгоценности Элизабет Тейлор, – свитер Джорджа Клуни. Блум говорит, что, когда он спрашивает испытуемых, сколько они готовы заплатить за свитер Джорджа Клуни, в среднем они называют гораздо более высокие суммы, чем стоимость нового свитера.
Если сказать желающим купить свитер: «Вы можете его купить, но не сможете никому рассказать, что его носил Клуни», стоимость свитера уменьшается. Свитер стоит больше, если его не стирали после Клуни. После сухой химчистки он стоит чуть больше, чем после стирки.
Большинство студентов, изучающих историю искусства, видели в книгах репродукцию «Сна» Пикассо 1932 года, портрета возлюбленной живописца Марии-Терезы Вальтер. Картина принадлежала владельцу лас-вегасских казино и отелей Стиву Уинну, который заплатил за нее 48 миллионов долларов в 1997 году, когда проходили эпохальные торги коллекции Виктора и Салли Ганц на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке. В 2006 году Уинн согласился продать ее коллекционеру и главе хедж-фонда Стивену Коэну за 139 миллионов.
В выходные перед отправкой картины Уинн пригласил друзей на ужин; среди гостей были знаменитости Дэвид и Мэри Бойс, Нора Эфрон и Барбара Уолтерс. Уинн рассказал им, что собирается продать «Сон», и гости попросили ее показать. У Уинна была болезнь глаз – пигментная дистрофия сетчатки, из-за которой его периферийное зрение ограниченно, что делает его опасным для находящихся близко предметов. Рассказывая историю «Сна», он попятился и ткнул локтем прямо в левое плечо Марии-Терезы. Через неделю история просочилась в прессу, и знаменитые очевидцы ее подтвердили. Все газеты в том или ином варианте рассказали про «локоть Уинна за 40 миллионов долларов» – такую сумму он запросил со страховой компании Lloyd’s of London, дабы компенсировать снизившуюся стоимость картины.
Сделка с Коэном была отменена. Восемь недель картину восстанавливал манхэттенский реставратор Теренс Манн, используя иглы для рефлексотерапии. По некоторым сведениям, реставрация обошлась в 90 500 долларов и полностью скрыла повреждение. Через полгода Уинн одолжил картину для крупной экспозиции, где она вызвала самое большое восхищение и больше всего отзывов из всех выставленных картин Пикассо.
Затем последовали долгие переговоры между Уинном и его страховой фирмой. Уинн утверждал, что «Сон» после реставрации стоит лишь 85 миллионов. Дело кончилось в манхэттенском окружном суде. Lloyd’s согласились выплатить, по слухам, 39 миллионов долларов. Страховой компании не с кого было стребовать убытки, потому что Уинн был одновременно и застрахованным лицом, и причинителем ущерба.
Обозреватели рынка искусства оценили «Сон» с его обновленной историей, компенсирующей убытки от любого мелкого повреждения, уже ближе к 175 миллионам. В марте 2013 года Уинн все-таки продал картину Коэну за 150 миллионов.
Характер эстетического восприятия искусства также связан с историей и подлинностью объекта. В 1962 году супруга президента США Жаклин Кеннеди очаровала французского министра культуры Андре Мальро, и тот согласился прислать «Мону Лизу» в Америку, где она выставлялась в Западном крыле Белого дома, а потом в нью-йоркском музее Метрополитен. Сотрудники Лувра в Париже пришли в ужас от поступка Мальро. Считалось, что картина не выдержит транспортировки; она уже была слегка деформирована, и с обратной стороны появилась небольшая трещина. Музейщики опасались, что даже небольшая тряска при транспортировке может оказаться губительной.
Оказалось, что в Лувре есть великолепная копия «Моны Лизы» точно в такой же раме, и, по слухам, ею иногда заменяют оригинал во время осмотра или чистки, чтобы не разочаровывать посетителей. Как рассказывал арт-критик Роберт Хьюз, он предложил простой компромисс для решения луврской дилеммы: прислать в Вашингтон копию. Французы ответили, что о замене непременно станет известно и американцы будут дуться десять лет.
Более миллиона американцев прошло мимо шедевра Леонардо. В среднем приходилось ждать в очереди два часа. Хьюз так сказал об этом: «Люди приходили не посмотреть на нее, а сказать, что ее видели. Картина превратилась из предмета искусства в икону ширпотреба».
Сколько миллионов человек стали бы дожидаться в очереди, если бы знали, что увидят только идеальную копию? Сколько бы разозлились, узнав, что простояли два часа, чтобы увидеть оригинал, а он оказался копией? Но почему зритель должен сердиться, если он даже не может описать, чего недополучил? Мальро согласился с Хьюзом; он сказал, что большинство стояли в очереди не затем, чтобы посмотреть на «Мону Лизу», а чтобы сказать потом знакомым, что они ее видели.
И наконец, последний, драматический, рассказ о природе эстетического восприятия и истории картины. В нем участвует коллекционер искусства Герман Геринг, правая рука и официальный преемник Гитлера. Рейхс-маршал Геринг, как и Гитлер, собирал искусство с большим размахом; оба хотели собрать столько произведений, чтобы открыть лучший в Европе музей.
После разгрома британцев в Нормандии Геринг добыл грабежом и вымогательством (предлагая владельцам-евреям взамен беспрепятственный выезд в Швейцарию или Испанию), а отчасти и купил за деньги тысячи предметов искусства из оккупированной Франции, Голландии и Бельгии. Больше всего Герингу хотелось приобрести творения Яна Вермеера. Он считал Вермеера самым талантливым из арийских живописцев. Вдобавок Геринг завидовал Гитлеру, потому что у того уже было две картины кисти Вермеера.
Герингу сообщили, что голландский торговец Хан Антониус ван Меегерен может отыскать какого-нибудь редкого Вермеера. Геринг явился к ван Меегерену, и тот оказался умелым негоциантом.
Через несколько недель ван Меегерен доставил Герингу эффектную картину «Женщина, взятая в прелюбодеянии» (ее также называют «Христос и судьи»). Геринг тут же, без переговоров, предложил в обмен 200 голландских картин, захваченных им с начала оккупации, и ван Меегерен согласился. Картины стоили, в сегодняшних ценах, около 11 миллионов долларов; это была самая большая сумма в истории на тот момент (и еще сорок лет после этого), заплаченная за единственную картину.
После войны Геринга судили на Нюрнбергском процессе и приговорили к смерти. Большую часть его коллекции, включая «Женщину, взятую в прелюбодеянии», нашла поисковая команда союзников, разыскивавшая предметы искусства. К картине прилагались документы, удостоверявшие ее происхождение от ван Меегерена. Голландские власти его арестовали и обвинили в измене, в сотрудничестве с врагом и продажу врагу национального культурного достояния. После осуждения торговца приговорили к смертной казни. Ван Меегерен сознался, но не в измене, а в том, что подделал картину Вермеера, которую продал Герингу. Кроме того, он признался, что подделал еще трех Вермееров, включая картину «Христос с учениками в Эммаусе». Она выставлялась в галерее Бойманса в Амстердаме.
Сначала история ван Меегерена никому не показалась убедительной. Чтобы доказать его слова, ему позволили прямо в тюремной камере написать еще одну поддельную картину, которую он назвал «Иисус среди врачей». Ван Меегерен продемонстрировал суду, как смешивал синтетическую смолу с пигментами и запекал оконченный холст в печи, чтобы краска затвердела, как камень, будто бы за несколько веков. Он рассказал, как соскабливал краску с холстов XVII века, чтобы сохранить кракелюры, и повторно использовал оригинальные подрамники. Эксперты, дававшие показания перед судом, рассудили, что его новая картина даже превосходит ту, что он продал Герингу.
Обвинения в коллаборационизме и измене были сняты. Вместо них ван Меегерену вменили подделку картины, осудили и приговорили к году тюрьмы. Через неделю после приговора он умер от сердечного приступа.
Геринг был сильно потрясен, когда узнал, что его Вермеер – поддельный. Американский офицер, допрашивавший Геринга, сказал, что, когда тому рассказали о подделке, «у него был такой вид, будто он впервые в жизни узнал, что в мире существует зло».
Вермеер был идеален; он доставлял такое же эстетическое удовольствие, как и подлинный. Он выполнял свою работу – производил впечатление на всех посетителей Геринга. Почему этого искушенного человека, да еще и ожидавшего казни, так взволновала новость? Пять лет он пребывал в заблуждении относительно истории и контекста своей любимой картины и ее истинной способности выполнить работу, для которой она предназначалась.
Эта история имела одно интересное следствие, уже когда о подделке Меегерена стало широко известно. В том же году, когда он умер, исследователи провели эксперимент с еще одним шедевром Вермеера, висящим в Государственном музее в Амстердаме. Они спрашивали, что думают зрители по поводу увиденной картины. Многие говорили о глубоких и сильных переживаниях.
Другим посетителям задавали тот же вопрос, но сначала сообщали дополнительную информацию – что перед ними одна из знаменитых подделок ван Меегерена. Эти зрители уже не выражали никаких сильных чувств: «Просто старинная картина». Уберите историю и контекст, оставьте только сущность картины – и вы получите совсем другую эмоциональную и интуитивную реакцию.
Картина может быть подлинной, когда художник называет ее подлинной. Вспомните знаменитое чучело акулы Дэмьена Херста. В январе 2005 года чучело купил Стивен Коэн. К тому времени оно пришло в негодность. Плавники отваливались, акула вся посерела и пошла пятнами, вот-вот грозила окончательно разложиться. Херст купил еще одну большую белую акулу такого же размера и свирепого вида, как и оригинал, вколол в нее в десять раз больше формалина, поместил в аквариум и поменял на нее коэновский оригинал, который потом выкинули. Коэн одолжил новую акулу для выставки в нью-йоркском музее Метрополитен.
Если бы кто-нибудь еще предложил копию произведения искусства, ее бы отвергли как подделку. А эту принял один из известнейших музеев мира. Новая акула приобрела подлинность с такой же историей и контекстом, как у оригинала, потому что так сказал Херст. Видевшие акулу воспринимали ее как оригинал, хотя из описания в музее ясно следовало, что это замена.
Неудивительно, что мы так любим истории. Чем чаще всего добровольно занимаются американцы? Не общением и не сексом. Исследования показывают, что американцы в среднем посвящают четыре минуты в день сексу и четыре часа в день телевидению, фильмам, книгам, компьютерным и видеоиграм, то есть погружаясь в миры, сотворенные другими. В остальных западных странах, вероятно, дело обстоит так же. Может быть, когда коллекционеры больше времени тратят на то, чтобы рассказать гостям истории своих картин, чем на то, чтобы ими любоваться, это всего лишь попытка удовлетворить все ту же жажду.
Читатель, наверное, догадался, что история важнее всего для того художника, который уже стал брендом. История может увеличить стоимость картин, уже высокую по всеобщему согласию, если это картины Гонсалеса-Торреса или Баския, Кляйна или Херста. Картине какого-нибудь Томсона интересная история ничего не добавит.
Подлинность Уорхола
Возможно, первый раз в истории картина, которую художник подписал, датировал, посвятил и лично подтвердил… изъята из его творчества людьми, которых он сам на это не уполномочивал.
Ричард Дормент, арт-критикВопрос подлинности и ее связи с ценностью произведения искусства отнюдь не ограничивается примерами «Моны Лизы» и чучела акулы из прошлой главы. Можно ли считать картину, лично подписанную и датированную художником, безусловно подлинной? Художник, о котором идет речь в цитате Ричарда Дормента, – это Энди Уорхол; картина входит в серию из десяти одинаковых шелкографий, созданных в 1966 году, каждая называется «Красный автопортрет» (Red Self Portrait) и посвящена Бруно Б. На каждой из десяти подпись и дата поставлены собственноручно Уорхолом. Американский коллекционер Джо Саймон-Уилан, близкий друг Уорхола, приобрел «Красный автопортрет» у дилера Майкла Уильямса в 1989 году. За два года до того он выставлялся на аукционе «Кристи»-Нью-Йорк. Через несколько лет после приобретения Саймон-Уилан обратился с ним в комиссию по аутентификации работ Энди Уорхола. Комиссия – это некоммерческое ответвление Фонда изобразительных искусств Энди Уорхола, учрежденное в 1995 году для установления подлинности приписываемых Уорхолу арт-объектов.
В 2002 году комиссия пришла к выводу, «что упомянутая работа [ «Красный автопортрет»] не принадлежит Энди Уорхолу, однако подписана, посвящена и датирована им». Комиссия припечатала обратную сторону холста штампом «Отказано» нечитаемой красной тушью.
Саймон-Уилан подробнее исследовал провенанс своей картины и снова обратился с ней в комиссию. Картина вновь получила отказ, так что ее стали называть «дважды отказной Уорхол». Дважды отказной Уорхол вызвал большой ажиотаж в художественном сообществе, потому что, в отличие от многих спорных случаев с атрибуцией предметов искусства, ситуация с «Красным автопортретом» с самого начала казалась совершенно ясной.
Вопрос установления подлинности приобрел новое значение в первые десять лет XXI века. Когда произведения искусства продаются за миллионы долларов, уверенность в верной атрибуции может принести целое состояние при продаже. Отсутствие уверенности может снизить ценность работы практически до нуля. Произошел сдвиг в соотношении между затратами и прибылью, которые влечет за собой предъявление иска к эксперту в случае, если он дает отрицательное заключение о подлинности или отказывается дать положительное.
В 2003 году комиссия по подлинности Уорхола отвергла еще один «Красный автопортрет», принадлежавший известному лондонскому арт-дилеру Энтони д’Оффею. У этого варианта была внушительная история с подробностями. На автопортрете собственноручная подпись и дата Уорхола, а также подпись его швейцарского дилера Бруно Бишофбергера, который в 1969 году приобрел его напрямую у художника. Он включен в каталог-резоне Уорхола 1970 года, составленный Райнером Кроне. Этот каталог исправлялся и трижды публиковался еще при жизни Уорхола, и художник лично утвердил цветную репродукцию картины на его обложке. Он даже подписал принадлежавший д’Оффею экземпляр каталога.
Бишофбергер продал картину частному коллекционеру из Германии, и она выставлялась в берлинском Музее современности в здании Гамбургского вокзала. К выставке была отпечатана партия открыток с репродукцией автопортрета с копирайтом фонда Уорхола. Позднее картину приобрел д’Оффей.
Д’Оффей обещал «Красный автопортрет» галерее Тейт Модерн и Национальной галерее Шотландии в рамках передачи 700 картин, частично благотворительной, частично возмездной. Пожертвование оценивалось в 125 миллионов фунтов (193 миллиона долларов). Д’Оффей предложил его за 26,5 миллиона фунтов (41 миллион долларов) – за эту сумму он приобрел картины, а разница с рыночной стоимостью пошла бы как дар. По мнению директора Тейт Модерн Николаса Сироты, подлинность автопортрета Уорхола не вызывала никаких сомнений. Тем не менее д’Оффей исключил ее из своего пакетного предложения.
По справедливости, довольно трудно установить подлинность некоторых уорхоловских творений массового производства с суповыми банками, бутылками кока-колы и фотографиями знаменитостей. Его идея заключалась в том, чтобы массово производить искусство как товар широкого потребления, и большинство (но не все) его картин выполнены техническими ассистентами в студии, которая называлась «Фабрика» (The Factory).
Его шелкографические картины основывались на фотографиях, которые в фотолаборатории переводились на прозрачную ацетатную пленку. Ацетатная пленка давала Уорхолу нужное качество изображения. Затем с пленки изображение переносилось на трафарет – это самая важная часть творческого процесса. Потом по трафарету изображение отпечатывалось на холсте. На большинстве этапов работу выполняли техники, однако считается, что только Уорхол работал с пленкой. Он отдавал работу над последними стадиями в коммерческие типографии, где работники часто отпечатывали несколько лишних копий на всякий случай, или в качестве оплаты за работу, или просто потому, что могли.
Из-за такого творческого метода трудно определить, что относится к творениям художника, а что нет; Уорхол хотел размыть границы между творением художника и механическим воспроизведением. Через двадцать лет после его смерти комиссии по установлению подлинности его работ пришлось вынести решение о том, какие технические копии тем не менее должны быть признаны подлинниками.
Решающим фактором, по всей видимости, является не то, касалась ли картины его рука, и даже не то, подтвердил ли он ее подлинность перед продажей, но, скорее, есть ли в ней «присутствие художника, производилась ли картина под его непосредственным наблюдением». Я говорю «по всей видимости», потому что комиссия, отвергая картины Саймона-Уилана или д’Оффея или большинство других работ, ничего не уточняла. Специалисты расходятся во мнениях даже относительно критерия «присутствия художника»; они подчеркивают тот факт, что именно размывание границ авторства помогло Уорхолу занять его место в истории искусства.
Комиссия, которая заявляет своей ролью защиту целостности наследия Уорхола, в данном случае утверждает, что Уорхол проявил небрежность, когда подписывал картины или утверждал обложку собственного каталога-резоне. По мнению Джорджины Адам из The Art Newspaper, проблема в том, что «в фонде хотят, чтобы Энди Уорхол был возвышенным художником с возвышенными идеалами; там хотят, чтобы Уорхол был вроде Леонардо да Винчи. Им не хочется думать, что он просто подписал кучу всякой всячины не глядя, но ведь именно это он и сделал».
После второго отказа Саймон-Уилан подал в суд на фонд Уорхола. Еще обращаясь в фонд с просьбой об установлении подлинности, он подписал документ, в котором отказывался от права когда-либо обращаться с иском в суд на обычных основаниях и обвинять его в халатности, занижении стоимости товара, диффамации или мошенничестве. Вместо этого он подал иск на основании антимонопольного закона, обвиняя фонд в монополизации и ограничении рынка. Он утверждал, что комиссия отрицает подлинность принадлежащей ему картины и других работ Уорхола, чтобы сократить их количество на рынке и защитить стоимость коллекции, которой владеет фонд. Его иск стал первым антимонопольным иском к комиссии, который не был отклонен по ходатайству фонда.
Фонд Энди Уорхола в свою защиту заявил (как заявлял всегда), что он и комиссия по аутентификации – отдельные институты и что решения пяти членов комиссии независимые и незаинтересованные. Некоторые критики усомнились в этом, ссылаясь на то, что глава фонда Джоэл Уокс номинально занимает пост председателя комиссии и имеет полномочия назначать ее членов (хотя Уокс не принимал участия в процессе установления подлинности). Агент фонда по продажам и бывший ассистент Уорхола Винсент Фримонт присутствовал на заседаниях комиссии в качестве консультанта. Кроме того, два штатных сотрудника комиссии получают зарплату от фонда.
Вдобавок официальный отказ от претензий, который подписывали коллекционеры Уорхола и который давал членам комиссии защиту от судебных исков, очевидно, позволял комиссии менять свое решение о подлинности картины в будущем. Это условие, как говорили, затыкает рот любым критикам ее деятельности со стороны дилеров и коллекционеров, так как они боятся настроить против себя ее членов.
В ноябре 2010 года Саймон-Уилан отказался от иска, заявив, что он не в силах бороться с фондом, который владеет ресурсами в полмиллиарда долларов и только что потратил 7 миллионов на защиту на предварительном рассмотрении дела в суде. Он подписал мировое соглашение, в котором отказался от всех претензий в связи с нарушением антимонопольного закона. В соглашении говорилось, что «не существует данных, свидетельствующих о том, что ответчики когда-либо участвовали в каких-либо сговорах, антиконкурентных действиях или незаконной деятельности в связи с продажей или установлением подлинности произведений Уорхола».
Есть еще одна история с Уорхолом, в которой участвует Джерард Маланга, бывший ассистент художника на «Фабрике». В 2005 году Маланга подал в суд на художника и коллекционера Джона Чемберлена, которому принадлежала картина Уорхола «315 Джонов» (315 Johns) с изображениями Чемберлена, расставленными длинными рядами и столбцами. Подлинность картины была удостоверена комиссией. Чемберлен говорит, что он в частном порядке продал ее за 3,8 миллиона долларов.
Маланга заявил, что «315 Джонов» не подлинная, так как он сам изготовил ее в 1971 году в студии города Грейт-Баррингтон как дань уважения Уорхолу. По его словам, Уорхол даже не знал о ее существовании. Маланга сказал, что потерял картину из виду; и хотя она в конце концов оказалась у Чемберлена, она тем не менее принадлежит ему.
Чемберлен утверждал, что получил картину в обмен на другую у Уорхола. Во время разбирательства, которое продолжалось пять лет, суд заявил, что не связан решениями комиссии по аутентификации работ Уорхола.
Стороны пришли к соглашению в апреле 2011 года, за день до того, как должен был начаться судебный процесс. Условия соглашения остаются конфиденциальными. Комиссия по аутентификации работ Уорхола повторила, что оставляет за собой право изменить мнение о «315 Джонах», если ей станут известны новые факты, но нет никаких признаков того, что она передумала.
Последняя головоломка – как оценить «Ящик мыльных губок Brillo», которых Уорхол даже не видел. Этот вопрос всплыл в деле с участием покойного Понтюса Хюльтена, который участвовал в основании или формировании Государственного музея в Стокгольме, Государственного музея современного искусства в парижском Центре Помпиду и лос-анджелесского Музея современного искусства.
Хюльтен утверждал, что Уорхол поручил изготовить 100 ящиков Brillo для экспозиции в Стокгольме в 1968 году, которую курировал Хюльтен, и что Уорхол передал ему для этого картонный трафарет. В Швеции были расписаны пятнадцать деревянных ящиков. Чтобы изготовить оставшиеся для выставки, не хватало времени, поэтому Хюльтен купил 500 картонных коробок на заводе Brillo в Бруклине, США. Эти ящики были расставлены по обе стороны от входа на выставку.
Еще 105 деревянных ящиков были изготовлены для Хюльтена через несколько лет для выставки поп-арта в СССР в 1990 году. Хюльтен сказал, что Уорхол сам поручил ему расширить серию. Ящики изготовили два плотника в шведской галерее Malmö Konsthall, и позднее они выставлялись в 1992 году в Боннском музее, где Хюльтен был художественным директором.
Впоследствии много деревянных ящиков было продано. В 1994 году бельгийский дилер Ронни ван де Вельде купил у Хюльтена 40 ящиков за 640 тысяч фунтов (992 тысячи долларов). Потом ван де Вельде обратился в комиссию по аутентификации и получил штамп подлинности. В 2004 году лондонская дилерская фирма Archeus Fine Art купила 22 ящика, как сообщается, за 650 тысяч фунтов (1,2 миллиона долларов). Владелец галереи Брайан Бальфур-Оуттс перед сделкой обратился в комиссию; комиссия подтвердила, что ящики подлинные. Archeus тут же продала десять ящиков Энтони д’Оффею через «Кристи» за 476 тысяч фунтов (737 тысяч долларов). Оставшиеся ящики пошли американскому коллекционеру за неразглашаемую сумму.
В 2007 году комиссия узнала, что в стокгольмской экспозиции участвовали только картонные коробки. Тогда она классифицировала пятнадцать деревянных ящиков, изготовленных во время выставки, как «ящики стокгольмского типа» и назвала их «копиями, связанными с выставкой». Поздние деревянные ящики были классифицированы как «ящики мальмского типа»; комиссия называет их «выставочными копиями». Она не отозвала уже выданные сертификаты подлинности, однако считается, что уже достаточно одного термина «копии». Картонные коробки, которые действительно экспонировались в Стокгольме, теперь должны считаться подлинными и представляли бы большую ценность, если бы их не выбросили после выставки в Музее современного искусства.
Уорхол сам не изготавливал, не контролировал и даже не видел ни деревянных ящиков, ни картонных коробок. Решающим фактором в данном случае было, участвовали ли они в стокгольмской выставке, утвержденной Уорхолом.
Ни одна из пяти самых дорогих проданных с аукциона работ Уорхола, включая «Зеленую автоаварию» (1963), проданную в 2007 году за 71 миллион долларов, и упоминавшиеся в первой главе «Мужчины в ее жизни», проданные в 2010 году за 63 миллиона, никогда не представлялись в комиссию для удостоверения подлинности. По сведениям The Economist, самая дорогая проданная частным образом картина Уорхола «Восемь Элвисов» (Eight Elvises, 1963) принесла «больше 100 миллионов» в 2008 году и также никогда не представлялась в комиссию. Владельцы самых дорогих картин либо не хотели рисковать получить отказ, либо считали, что коллекционеров не остановит отсутствие подтверждения. Пять аукционных Уорхолов, «Восемь Элвисов» и все работы его самого важного периода (с 1960 по 1965 год) перечислены в каталоге-резоне. Единственное, что могло добавить подтверждение подлинности, – это уверенность, что именно эта картина указана в каталоге.