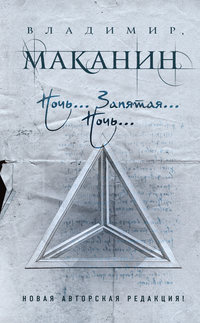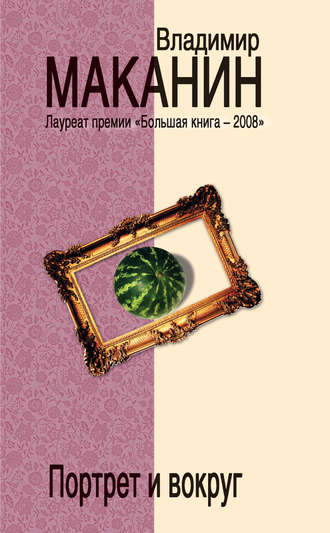
Полная версия
Портрет и вокруг
Так я приехал в Мастерскую, чтобы сообщить Вере, что дело откладывается на неопределенный срок. И что не моя тут вина, я, собственно, и ехал, чтоб объясниться насчет не моей вины, потому что по телефону такое не объясняется. Или объясняется плохо.
Я прибыл и сразу же – через дверь – услышал их голоса.
Старохатов. Я вас предупредил. Дисциплина и дисциплина!..
Он распекал Веру, точь-в-точь как распекал пять лет назад. Их словно законсервировали вместе с их голосами… Вера откликалась однообразно и с чуть слышимой обидой.
Вера. Хорошо, Павел Леонидович.
Старохатов. Посещение занятий – как закон!
Вера. Хорошо, Павел Леонидович.
Старохатов. И никакой сердобольности. Только бюллетень – оправдание их отсутствия.
Вера. Хорошо…
Старохатов. И чтоб печать на бюллетене была так же заметна, как их громадные попугайские галстуки…
Я не вошел к ним, я развернулся и уже уходил от этой памятной мне двери: пусть они доспорят… Я спустился в буфет, чтобы выждать, – в буфете тоже без перемен. Если не считать необычной и как бы абсолютной тишины. Да, было тихо. Если бы не тишина, я мог бы считать, что вернулся в прошлое.
– Чашечку кофе. (И покурю!)
– Сию минуту. – Буфетчица была незнакомая, новая. И ни души возле ее боевого места – тихо.
Удовлетворив желудок и совсем присмирев, я отправился в холл, пристроился в кресле и – один в тишине и прохладе – мог теперь не спеша чувствовать то, что чувствует человек, вернувшись в забытые свои дни. То, да не то. Раньше здесь был Дом кино, с шумом, суетой, с этакой нервозностью вечного праздника, если не вечного парада-алле. В Доме кино – в огромном его чреве – существовал в те времена и бился за жизнь десяток мелких, связанных с кино, организаций-довесков. Это задавало ритм. Это будоражило, пьянило. В буфет, как говорилось тогда, только с ломом. Не пробиться. А вездесущие чашечки с кофе передавались из рук в руки через головы…
Но бал кончился, потому что кончаются и не такие балы. Дом кино переехал в новое здание, а с ним и сателлиты, которые роятся только возле живого и теплого, так уж они придуманы. Остались лишь две или три Сценарные Мастерские, а состав Мастерской невелик. Это Старохатов (руководитель). Это Вера Сергеевна (административный работник). Плюс машинистка. Ну, и десятка полтора слушателей. На весь огромный и опустевший Дом это было мало. Это было ничто. Ноль. И потому в тишине, в пустоте, в прохладе – я мог заодно чувствовать то, что чувствует человек, оказавшийся на вымершем и обезлюдевшем месте. На развалинах, это уж если с пережимом. Среди руин, хотя руин не было. Из верхнего окна разлет двух или трех прямых лучей (в них задумчиво, как миры, плавали пылинки) дополнял картину. Лучи были желтоваты.
Звонок – и во мне екнуло.
Появились слушатели, человек восемь. В пустынном и громадном холле они выглядели оробевшими. Или озябшими. Как в музее, в котором обязательно поверх обуви надевать шлепанцы. Казалось, что на них только что и круто прикрикнули, хотя на них не прикрикнул никто. Знакомых мне лиц не было. Да и с какой стати?
Ни голоса. Только ровное шорох-шуршанье большелопастного вентилятора, который запрятали где-то под самой крышей, чтобы он там, не видный глазу и вечный, вкалывал и вкалывал, подавая прохладу. Ага! Вот и знакомые. Появились Старохатов и два более или менее известных режиссера. Старохатов выступал свежо и бодро – величественная седая голова откинута чуть назад. Без перемен. Таких не берет и время.
Все трое сели за столик – Старохатов нога на ногу, и тут же раздался его смех, удивительно располагающий, дружеский, чуть-чуть с коньяком, но и с большим запасом надежности, – такой вот многогранный смех. Они сидели недалеко от меня. Но не рядом. Я запомнил одну реплику.
– Ну, а когда… ну, а когда же выстрелило ружье? – спросил Старохатов, и все трое засмеялись.
Вероятно, о только что увиденном фильме. (Не просто же так…) И стайка слушателей тут же смекнула, что это не просто так и что мешать разговору мэтров не следует. Стайка распалась. Слушатели разбрелись, потому что это перерыв и куда-то надо себя деть на десять минут. Они переминались с правой ноги на левую возле стен, возле портретов знаменитостей кино и четко выписанных афоризмов. Не дышали. Понимали, куда они попали и кому сподобились. Сопричастились.
– Спасибо, Валечка, – это мэтрам принесли по капле коньяку, и Старохатов благодарил.
Валечка сгрузила со своего подноса три влажные и сочные рюмки. Валечка улыбалась. Валечка приветливо щурилась. Но лицо у нее было сонное и мятое, будто на ней всю ночь возили дрова без подмены. Гляди она посвежее, один из молодых творцов, осмелев, тоже попросил бы, например, кофе сюда, в холл. Он уже перегнулся через столик, чтоб сказать ей насчет кофе. Но тут же подался назад. Испугался отпора, такое у нее было личико. Не рискнул.
Прозвенел звонок: пора!.. Горсточка слушателей собралась вместе – как на ленте, которую прокручивают с конца, – щуплые фигурки одна за одной стали втягиваться и всасываться в лекционную комнату, где им сейчас расскажут, как это нехорошо – изображать в кино постельные сцены. Все ушли. Осталась лишь тройка мэтров. И (за столиком поодаль) тройка юных творцов. Появилась вмиг Вера – приблизилась к юным творцам и зашептала:
– Разве вы не слышали звонка? Немедленно идите на лекцию. (Слов я не разбирал, но суть была ясной.)
Вера шептала им. Вера сердилась. Просила их. Ей ведь только-только сделали накачку на предмет дисциплины.
– Ребята, я вас очень прошу: идите.
И еще:
– Лектор уже там – ждет. Ну, Сережик! Ну, подымайся же…
Все это говорилось вполголоса, помимо мэтров. Дескать, дело наше и внутреннее, свой сор в избе. Юные творцы и ухом не повели. А Вера наклонялась то к одному, то к другому, потому что прекрасно знала, что они не столько хамоваты, сколько позируют, и что тут нужно не мытьем, а катаньем. Такая работа. За это ей платят деньги.
Но Сережики будто не слышали. Сидели себе сиднем – и все дела. Понимали, что, раз уж Старохатов на происходящее не реагирует, стало быть, слегка их поощряет. То, что Старохатов Веру не любит, тайной, конечно, не было.
Наконец Старохатов повернул к ним величественную седую голову.
– Вера Сергеевна, мы же не в пьесе Гоголя, голубушка. – И он улыбнулся. – Если ребята не идут на лекцию, значит, я просил их об этом.
Юные творцы победно переглянулись. Все это были отборные ребятки.
Старохатов довел драматургию эпизода до точки.
– Ребята, пересаживайтесь к нам, к нашему разговору. – Он опять улыбнулся. – Иначе действительно может показаться, что вы прогуливаете.
Ребята тут же переселились за столик к Старохатову и режиссерам, а Вера лишний раз должна была почувствовать свое место. Оказывается, он сам пригласил их на совместную беседу. Он просто забыл сообщить Вере об этом.
Но Вера была Вера, – потратив столько времени и слов на бесполезное упрашивание, она не слишком обиделась. Она взяла себя в руки. И выдала ему, Старохатову:
– Лектору заплачены деньги. Не ваши и не мои – государственные.
И ушла.
И плевать она хотела. Видно, так уж они жили со Старохатовым – поцапаться было для них делом ежедневным и обычным.
Вера пересекла холл почти по диагонали – кратчайшим путем. Она была в серой юбке и в розовой, очень строгой кофточке. И прическа строгая. И шаг сдержанный, ровный – все под осень. Я двинулся за ней. Я не спешил, потому что деться теперь ей было некуда и я наверняка знал, что застану ее одну. На лекцию она лишь заглянет, пересчитает слушателей – и вернулась.
Я не спешил. Поднимаясь по лестнице, я застрял у окна и уставился на те же липы, что и пять лет назад. Липы были как липы. А думал я о том, что сцену, которую только что увидел, я увидел глазами сторонника Веры. Увидел, находясь в ее лагере. И что в будущем я могу быть не прав, более того – буду не прав, если сейчас же не почешусь и не задумаюсь об этом. Факт был значащий. Знаменательный. И вот (надо отдать мне должное) я попытался мысленно переметнуться к противнику. Я сказал себе – Старохатов творческий человек. Великий ли, малый ли, но он как раз из тех самых, кто подбрасывает в печь дровишки, чтобы они горели и грели. И этим он живет, пусть даже с возрастом там осталась одна-единственная черная головешка и сизый дым. Мастерская для него последний (под старость) род деятельности. Он хочет жить спокойно. И можно себе представить, какой заусеницей, каким раздражающим чирьем оборачивается для него ежедневная и занудливая самостоятельность Веры. Она ведь тоже овощ. Она умеет…
Я оглянулся – по лестнице спускалась та самая официантка. Заезженная, с печатью ночных подвигов на лице.
– Привет, Игорек!
– Привет. – Я ее наконец узнал – ну конечно же Валечка. Она работала здесь и раньше.
– А я кооператив строю, – объявила она и засияла.
– Да ну?
– Честно!
– И деньги внесла? И уже квартиру видела? – спрашивал я.
Несмотря на упадочническую внешность, Валечка была переполнена самым задорным оптимизмом. Строила гнездо. На ее помятом лице бушевал восторг.
– И квартира есть, и Петька, и работа тихая – видал красоту, а?.. Живем!
Она подбросила двухкопеечную (шла звонить) и подмигнула:
– Пока!
Я поднялся наверх, но Веры там не нашел. Я оглянулся – Вера шла навстречу; она тут же на меня набросилась:
– …Видела, видела – ты сидел в углу, когда я загоняла этих болванов на лекцию.
– Здравствуй прежде всего.
– Здравствуй. И прибереги свою вежливость для семьи. Для домашних.
– Почему?
– Им нужнее.
Вера нервничала. Она знала, что я видел и уж конечно понял ту сцену, где ей дали щелчка. И не хотела сейчас выглядеть несчастненькой.
– Ну что Оконников? – спросила она.
– Нет его.
– Как нет?
– В городе его нет – уехал. Я много раз звонил им домой. Придется отложить, ничего не поделаешь. – И я изобразил на лице то, что изображают в подобных случаях.
Я начал (с чувством вины, хотя никакой вины за мной не было) рассказывать о жене Коли Оконникова, о моих звонках и о колесике, которое я так участливо советовал подкрутить. В общем, я оправдывался, так вышло. И лишь случайно я упомянул об антоновских яблоках, то есть о том, что Коля отбыл за ними.
– За яблоками? К родне? – тут же переспросила Вера. – Тогда я найду адрес.
– Чей адрес?
– Его родственников.
– Замечательно – а мне их разыскивать?
– Я уверена – ты их найдешь! Ты их легко найдешь!
Она засуетилась:
– Адрес сейчас же отыщу. Прошлой осенью Коля тоже уезжал. Он оставлял адрес, на случай, если его хватятся на киностудии…
Я хотел ей заметить, что Коля, судя по всему, уехал на неделю, не больше. И уж неделю-то наше дело терпит. Но я не сказал ей – не посмел сказать. Такое у нее стояло в глазах ожидание.
– Ты еще немного поскучаешь здесь, да, Игорь? А я пороюсь в своих книжках и принесу тебе адрес?
Я понял (и мудрено было не понять), что, если я сейчас же не возражу и не откажусь, мне придется бог знает куда тащиться (ехать, сидеть в вагоне) и разыскивать Колю. Я уже открыл рот, чтобы отказаться. Открыл – и опять закрыл.
Опять пришлось сидеть в прохладном пустынном холле и ждать – теперь я ждал адреса. И уже существовало, жарилось под солнцем некое конкретное место в Подмосковье, куда я потащусь и поеду, вовсе того не желая. Так всегда. У тебя вырывается «а», и тут же набегают желающие, чтоб заставить тебя сказать «б», – и однажды, рано или поздно, ты смекнешь, что алфавит длинен, что людей много и что просьб еще больше. А пока не смекнул, сиди и жди.
В этот раз я уселся в кресло под какими-то ядовито-зелеными картинами, выставленными на обозрение. Выставке здесь было самое место. Ни души. Слева я видел пасущееся стадо и сочную деревеньку на заднем плане. На картине справа тоже была деревенька. И мордатый бык, который глядел молодцом и внушал трепет.
Если от середины холла сместиться на несколько шагов к входу, можно было бы отметить и очертить, например, мелом площадку 3x3, в метрах. Там мы впервые столкнулись. Я шел тогда быстрым шагом и столкнулся с рыжей машинисткой и Верой. Машинистка сказала:
– Если вы поступите (то есть если мне удастся поступить в Мастерскую), это ваш будущий администратор. Знакомьтесь.
– Игорь, – сказал я, – и руку вперед, не чинясь, кто второй и кто первый.
– Вера Сергеевна.
Она была та самая: робкая, милая и пухленькая (Алла, Анюта или Ангелина). И я подумал: а хорошо бы! – и, видимо, так думал почти каждый из нас, в чьих взвинченных мозгах гнездилось тогда одно – поступить! поступить! поступить в Сценарную Мастерскую, а там будь что будет!.. И еще. Я тогда же хоть и мимолетом, но успел подумать, что Вера Сергеевна из тех женщин, робких, милых и пухленьких, которые не сами для себя выбирают и для которых всё или почти всё решает случай. Кому повезет, тому и повезет, я и знать не знал, что повезет мне.
Вера пришла в зыбучий мир кино из школы – из самой обычной московской школы. Там она преподавала литературу. Там она ходила из класса в класс. Образ Наташи Ростовой. Лишние люди в изображении Тургенева. И так далее. И, само собой, Веру там обожали все – от учеников шестого класса и до директрисы включительно. И не только потому, что она была милая, славная и пухленькая и могла трогательно прочесть письмо Татьяны к Онегину. Она устраивала, например, посещения выставки пейзажистов. Она устраивала встречи с кинорежиссерами. Она звонила, хлопотала, отбирала лучшие сочинения десятиклассников и куда-то бегала, чтоб их показать и отметить наградой. Короче, жила этим. Дышала этим.
Вера пришла в Мастерскую, потому что ее пригласили. Ей сказали: Вера Сергеевна, это то самое, это для вас. Хватит вам возиться со школьниками. Она согласилась. Она появилась на том пятачке 3x3, в метрах, который я мысленно очертил мелом. Конечно, здесь, как и в школе, тоже пришлось следить за дисциплиной. Зато теперь она звонила и приглашала прийти на встречу таких режиссеров, писателей и художников, о которых раньше не могла бы и помыслить. Более того: вызовы, звонки и устраивание встреч с «именитыми» стали основным ее делом – не самодеятельностью, а правом администратора по учебному процессу. А лучшие итальянские, скажем, фильмы привозились точь-в-точь к часу, который назначала она, Вера Сергеевна. А известные пейзажисты соглашались даже оставить здесь на месяц-два свои деревеньки и своих бычков. А известные писатели, подолгу откашливаясь, говорили голубушке Вере Сергеевне, что они малость того – робеют. И за пять минут до встречи со слушателями она писателя успокаивала, подавала стакан воды… Вот именно. Вера жила в облаках – она как бы жила в цветном и красочном сне, который почему-то затянулся. Те, кто ее сюда звал, сказали правду: это было то самое.
Тогда же Вера завела четыре голубенькие записные книжицы с алфавитом. Кино – изо – литература – театр, как раз четыре, так ей было удобнее. Для театра при тогдашнем его состоянии иметь целую голубенькую книжицу было слишком жирно (не по чину берешь), поэтому туда же входила музыка. Я помнил эти четыре книжицы совсем чистенькими. Как начало начал. Но теперь от фамилий именитых и известных людей страницы стали сплошь темными, и там не нашлось бы просвета даже для почтовой марки. Почерк был сменен на более мелкий. Адреса. Телефоны. Адреса. Телефоны. Каждая книжица кишела цифрами и гляделась, как глядится муравьиная куча в час пик. И вот сейчас Вера рылась в одной из них – кино – и выискивала адрес родственников Коли Оконникова.
* * *Появившись в Сценарной Мастерской, Вера жила себе и жила в облаках, и не было мягче места. Пока не упала оттуда. Как падают рано или поздно все, кто в облаках живет.
Сначала она услышала телефонный разговор – услышала нечаянно. Как бы подслушала.
Нет, сначала она порядка ради заглянула в аудиторию, где мы в этот час встречались с известным кинодеятелем, – посмотрела, все ли мы на месте и нет ли кого под мухой. Поизучав наши лица и галстуки, она удалилась. И вот – поднялась к себе наверх. А Старохатов – в дальней, своей, директорской комнате – говорил по телефону. Вера была от него через стенку. Или даже через приоткрытую дверь. Самое, конечно, поразительное то, что она не приняла услышанное на свой счет.
Старохатов рокотал. Глубокий и красивый голос.
– Ну, разумеется, я тебя встречу, – говорил он кому-то. – А если я все же задержусь, ты меня подождешь. Здесь тебя преотлично развлекут.
– Кто? (Предполагаемая реплика его телефонного собеседника.)
– Она и кофе тебя угостит.
– Кстати, как она? Ты ведь взял новенькую?
– То, что надо. Мила. Глупа. От слова «искусство» у нее начинают трястись колени: иногда боюсь, что бедняжка расплачется. Впрочем, очень и очень славненькая.
– (?)
– Ну что ты!
– (?)
– Зачем мне это надо. Я и без того ей рад… Свежий, наивный, доверяющий мне человек – что еще нужно? После той собаки, которую я выгнал…
– И которая так больно кусалась (?..)
– …я со своей новенькой просто счастлив. Я для нее бог. Я ей говорю: такой-то, кажется, талантлив. Она говорит: да-да-да, он даже Хемингуэя читал. Я говорю: а такой-то бездарен. Она тут же: да-да-да, он даже занятия пропускает… Ну разве она не прелесть?
– Поздравляю.
– Спасибо. В конце концов, я человек, хорошо в жизни потрудившийся. И чего-то стоящий. И на подходе к шестидесяти годам желаю жить спокойно.
Потом долго говорил собеседник Старохатова. Жаловался на кого-то из своих учеников. Слезно жаловался:
– (?..?..?..)
– Дам тебе на будущее совет, – сказал Старохатов. – Я в таких случаях имею в запасе ход конем.
– (?)
– В этом году, например, я принял одного подсадного. Нет-нет, не шептуна, я стукачей не терплю… Я принял в Мастерскую одного явно бездарного – маленький, плюгавенький человечек с очень подходящей фамилией Тузиков. Кажется, он оленевод, не то манси, не то ханты. Что-то в этом роде… Я принял его с тем, чтобы в середине учебы выгнать за творческую неспособность.
– Но зачем?
– А затем, чтобы не появился такой хам, какой появился у тебя.
– Не понимаю.
– Вот слушай. Как только у меня прорежется новоявленный гений и как только этот Ван Гог начнет орать про великое искусство и валить буфетчиц прямо в буфете, я его тут же спишу вместе с недоделанным оленеводом. Вдвоем их выгнать проще простого. Особенно когда один откровенно бездарный.
– Любопытно…
– Опыт, мой дорогой. Это и называется – опыт… Имея на руках такого оленевода, я совершенно спокоен.
– А мне? Что делать теперь мне?
– Не знаю, мой дорогой. Теперь уж нянькайся с ним. Выгнать будет трудно: если его отчислить именно за «гениальные» выходки, обязательно кто-нибудь вступится. И именитые. И любой демагог…
Они обменивались опытом.
Вера вошла к нему – она показала приготовленное расписание на следующий месяц. Спросила:
– Можно вывешивать, Павел Леонидович?
– Конечно, Вера Сергеевна… Конечно! – И Старохатов улыбнулся ей, на секунду оторвавшись от телефонной трубки.
Вера отправилась с огромным белым листом в коридор. Ей и в голову не пришло отнести первую половину услышанного на свой счет. Более того: она подумала, что бывают же такие глупенькие женщины, которые только поддакивают Павлу Леонидовичу и мнения собственного совсем не имеют.
* * *Второй услышанный разговор она тоже не отнесла куда надо. И, вероятно, десяток разговоров еще. А они были, эти разговоры, потому что Старохатов мало заботился, слышат его со стороны или не слышат. Такой уж был человек. С размахом. А комнаты как-никак были рядом.
– Приезжайте, – услышала Вера во второй раз. – Приезжайте, – приглашал кого-то Старохатов по телефону. – Цветы?.. Не надо, это лишнее.
– (?..)
– Нет-нет, никаких цветов. А то вы ее разбалуете… Лучше скажите ей два-три слова про искусство. Она будет на седьмом небе… Мне иногда кажется, что она конспектирует всю ту чушь, которую мы молотим.
– (?..)
– Ха-ха-ха-ха… Нет-нет, я думаю, она попросту хочет сохранить наши слова для потомков. А может быть, надеется продать мемуаристам.
Старохатов шутил и смеялся. Вера сидела в соседней комнате и не догадывалась, о ком речь. Такая вот пелена в глазах, и это бывает, со всяким бывает. У Веры уже сложился некий образ – образ женщины, знакомой Старохатова, которая обитает где-то здесь же, в Доме кино, которая наивна, глупа, влюблена в слово «искусство», и Вера иной раз гадала – интересно, кто же это?..
Почти год понадобился, чтобы Вера прозрела и упала с облаков. И опять это был телефонный разговор Старохатова. Может быть, сотый, если считать: количество перешло в качество.
– Я собираюсь от нее избавиться, – откровенничал Старохатов с кем-то.
– Почему?
– Уже пора…
Разговор был чрезвычайно короткий – обрывок разговора, залетевший каким-то образом в ухо. Вера даже не входила в свою комнату. Она попросту шла мимо. И услышала. И чем короче была вспышка, тем рельефнее и резче увиделись все предметы вокруг – как в грозу ночью.
– Ты же меня знаешь, – говорил Старохатов, – я не могу себя переделать. Человек мне нравится – приятен – симпатичен, а потом раз – и надоел!
– (?..)
– Поверь: я стараюсь терпеть, но я уже не в силах ее слушать… Она глупа. Она непроходимо глупа.
– И все же тебе придется ее терпеть (?..).
– Ничуть не бывало. Очень скоро от нее избавлюсь.
– Каким образом?
– У нее наклевывается роман со слушателем. Как только у них зайдет далеко, я ее прогоню. Нет-нет, разумеется, без шума. Боже избави… Тактично и тихо.
Вера онемела – машинально шла куда-то по коридору, а потом вниз, вниз, вниз. И к автобусу. Дело было не только в том, что ее, оказывается, собирались увольнять. И не в том, что упомянули и, значит, знали о ее романе со слушателем. Тут был именно разряд, вспышка, в которую спрессовались все прошлые разговоры о глупенькой женщине, – да, да, на этот раз в цель попали.
Вера пришла домой. И сама не заметила, как пришла, шаг за шагом. Лучше б ей сразу знать, что над ней подсмеиваются, – ничего сверхъядовитого в словах Старохатова не было, и она бы привыкла, как привыкают многие. Потому что над такими, как она, можно шутить, можно и насмешничать, можно заставлять их работать в две смены, можно на них ездить и можно погонять, можно почти все. Нельзя только одного – неожиданно тыкать их в больное. Хотя бы без умысла, хотя бы и нечаянно, все равно нельзя. Потому что такие, как она, и сами не знают, что у них есть это больное. Пока их не ткнут, они не знают. Живут себе – и счастливы.
На работу Вера не вышла. Она проболела десять дней, с температурой, с головными болями – все как и положено. Болезнь как болезнь. А когда вышла – это уже была другая женщина. Строгая прическа. Строгая одежда. Строгая речь. И уже наполовину совершился тот переход от милой, наивной, пухленькой женщины (Алла, Анюта, Ангелина) к той Вере Сергеевне, сдержанной, подлакированной в мире кино, собранной и деловой и – ненавидящей Старохатова. Наполовину свершилось. Остальное доделало время.
* * *Выгнать ее за «роман со слушателем» Старохатову не удалось – тут он дал промах. По той простой причине, что роман наш к этому времени уже закончился сам собой. То, что Старохатов принял за «наклевывание», было уже лишь отзвуками, отголосками, да и те были на излете. Он просчитался. Драматург до мозга костей, он ждал романа со старомодным глубоким дыханием. А роман был современен.
И все же Вере было лучше уйти. Потому что дни для нее наступили несладкие – повода для увольнения она не давала, но и сама уходить не уходила, а это уже было войной. Объявленной ему войной. Силы были слишком неравны. Вера была всего лишь Вера, была одна и держалась лишь на упрямстве и отчаянии маленького человека, который знает, что, кроме этого упрямства и отчаяния, у него ничего нет. А Старохатов был Старохатов. Он все мог и все умел. За последующие четыре года он вполне удовлетворил свой разгневанный (и очень удивленный поначалу!) дух. И теперь давал ей столько щелчков, сколько хотел, делая это вполсилы и между прочим. На месяц-другой он вообще забывал о Вере и о распре, как забывают зимой о комарах и мошках. Он уже давно мог бы ее выгнать. Потому что за четыре года там и сям освобождалось немало мест, и это называлось бы не «выгнать», а, скажем, «перевести». Но он не выгонял.
Он хотел – и это был именно его почерк, небрежный и крупно-размашистый почерк Старохатова, – он хотел, чтоб она сама ушла. Чтоб сама дозрела. Чтоб сама поняла.
И вот я входил в их распрю, так сказать, под самый занавес. Я входил с холодком. Эти подслушанные его телефонные разговоры (в пересказе Веры – мы сидели с ней в кафе, на столе арбуз и две чашки кофе, как у киношников) меня, ей-богу же, не задели за живое. И оскорбительного в этих разговорах я не нашел. Что такое телефонный треп, знает всякий. А Старохатов был широкой натурой и вполне мог такие слова, как «глупышка», «выгоню» и подобные, нанизывать одно за одним просто так, от собственной широты и размашистости. Разговора ради.