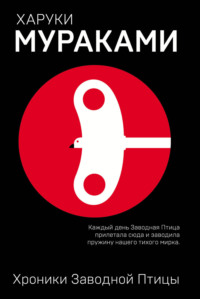Полная версия
Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий
– Наверное.
Сара прищурилась.
– Прямо как у Вселенной.
– Насчет Вселенной не знаю, – отозвался Цкуру. – Но для нас в те дни это ужас как много значило. Казалось, нужно во что бы то ни стало сохранить между нами эту…chemistry[7]. Ну, как не дать погаснуть спичке на ветру.
– Chemistry?
– Сила, возникшая при конкретных обстоятельствах. Только однажды – и больше никогда.
– Как Большой Взрыв?
– В Большом Взрыве я тоже разбираюсь неважно, – признался Цкуру.
Сара отхлебнула мохито, повертела в пальцах бокал, разглядывая плавающие в нем листья мяты, и наконец сказала:
– А я, знаешь, все детство проучилась в женской гимназии. И, если честно, плохо понимаю, как могут девчонки с парнями вот так дружить одной компанией. Даже представить себе не могу. Получается, чтобы сохранить ваш союз, вы решили себя ограничивать, что ли? Отрицание себя ради дружбы?
– Не знаю, подходит ли сюда «отрицание». Пожалуй, слишком сильное слово. Хотя, наверное, все-таки да – мы старались не допускать, чтобы дружба перерастала в сексуальные симпатии.
– Но вслух не обсуждали? – уточнила Сара.
Цкуру кивнул.
– Да, словами не говорили. Все-таки инструкций для такого не сочиняют.
– Ну а сам ты что же? Всю дорогу вместе – и ни к Белой, ни к Черной не тянуло? Насколько я поняла, девчонки они были симпатичные…
– О да, очень. Каждая по-своему. Я бы соврал, сказав, что не тянуло. Но об этом я, насколько мог, старался не думать.
– Насколько мог?
– Насколько мог, – повторил Цкуру и почувствовал, что снова краснеет. – А когда совсем не думать не получалось, думал про обеих сразу.
–Про обеих сразу?
Цкуру помолчал, подыскивая слова.
– Не могу объяснить как следует. Ну… нечто вроде фантазии, что ли. Идеальная фантазия, бесплотная и бесформенная.
– Хм-м… – озадаченно протянула Сара. И задумалась на несколько секунд. Открыла было рот, но спохватилась, а чуть погодя уточнила: – Значит, после школы ты уехал из Нагои и поступил в токийский вуз, верно?
– Да, – кивнул Цкуру. – С тех пор так в Токио и живу.
– А остальные четверо?
– Поступили кто куда в родном городе. Красный – в универ, на факультет экономики. У него там отец преподавал. Черная – в элитный женский колледж на английский. Синий отлично в регби играл, его взяли по рекомендации в частный коммерческий институт. А Белую родня отговорила-таки идти в ветеринары, и она подалась в музучилище на класс фортепьяно. У всех получилось так, что учеба от дома недалеко. И только я уехал в Токио и поступил в политехнический.
– А почему именно в Токио?
– Да очень просто. Именно в Токийском политехе преподает уникальный в своем роде профессор – архитектор железнодорожных станций. Наука это особая, совсем не похожа на архитектуру обычных зданий. От выпускника обычного строительного факультета здесь проку мало. Тут нужен профессионал очень узкого профиля.
– Конкретная цель упрощает жизнь… – задумчиво произнесла Сара.
И Цкуру с этим согласился.
– И что же, – сказала она, – остальные четверо остались в Нагое, потому что не хотели разваливать ваш нерушимый союз?
– В последнем классе школы мы собрались впятером и обсудили, кто что будет делать дальше. Все, кроме меня, хотели и дальше учиться в Нагое. О причинах вслух не говорили, но было ясно, что им неохота разрушать компанию…
Красный – с его-то успехами – мог бы легко поступить в Токийский универ: это ему в один голос советовали как родители, так и учителя. Синий с его спортивным талантом тоже запросто получил бы рекомендацию в какой-нибудь элитный вуз. Черная с ее утонченным интеллектом успешно развернулась бы в мегаполисе, поступив без труда в какой-нибудь столичный частный колледж. Конечно, Нагоя тоже город немаленький, но с культурной жизнью бедновато – все-таки провинция. Однако все четверо решили остаться там – пускай и на ступеньку ниже того уровня, которого заслуживали. Из них, кажется, только Белая сроду не выезжала никуда из Нагои. Даже не потому, что боялась разрушить компанию, а просто не искала себя активно во внешнем мире.
– Они спросили, что собираюсь делать я, и я ответил, что пока не знаю. Но уже тогда решил, что буду учиться в Токио. Хотя с радостью остался бы с ними в Нагое и поступил в местный вуз на похожую специальность, будь такое возможно. И самому веселей, и домашние были бы счастливы. Предки-то надеялись, что я продолжу папашин бизнес. Но я понимал: не уеду в Токио – сильно потом пожалею. Очень уж хотелось поучиться у того профессора.
– В самом деле… – сказала Сара. – И когда ты уехал, как они к этому отнеслись?
– Что они действительно думали, я, конечно, не знаю. Но уж наверное обиделись. Все-таки впервые наше общее чувство, чтовсе заодно, вдруг куда-то исчезло…
– Любоеchemistry когда-нибудь да улетучивается?
– Или становится чем-то принципиально другим. В большей или меньшей степени.
И все-таки стоит признать: узнав о его твердом решении, друзья не стали его отговаривать. Напротив, даже принялись подбадривать, мол, от Токио на «Синкансэне» всего полтора часа. Всегда сможешь сразу сесть и приехать. И даже подшучивали – дескать, еще и не факт, что поступишь. Ведь и в самом деле, чтобы поступить именно в тот вуз и на тот факультет, Цкуру пришлось впервые в жизни учиться всерьез, позабыв обо всем остальном.
– И что же стало с вашей «неразлучной пятеркой» после школы? – спросила Сара.
– Сначала все шло отлично. На каникулах – осенью, весной, летом, на Новый год – я возвращался в Нагою и старался побыть с ними подольше. И все оставались близки, как и прежде…
И действительно, всякий раз, когда он приезжал в родной город, все старались скорее увидеться с ним, а при встречах болтали без умолку: интересные темы не иссякали. Без него собирались вчетвером. А потом появлялся он, и их вновь становилось пятеро (разумеется, кроме тех случаев, когда кто-то бывал занят – тогда могли собираться даже втроем). Они по-прежнему радовались ему. Ни разу не случилось, чтобы кто-то кого-то не понял – по крайней мере, сам Цкуру, к своей радости, ничего такого не замечал. Возможно, поэтому в столице он так ни с кем и не подружился, хотя это его ничуть не расстраивало.
Сара посмотрела на него, прищурившись.
– То есть в Токио у тебя вообще не было друзей?
– Да не заводились… почему-то, – ответил Цкуру. – Я вообще с людьми нелегко схожусь, хотя и в себе, конечно, не замыкаюсь… Тогда я просто впервые смог жить один и заниматься чем хочу. Так день за днем и наслаждался свободой. Весь Токио – это паутина железных дорог с огромным числом вокзалов. Поэтому все свободное время я путешествовал сам по себе – ездил по станциям, изучал, как они устроены, зарисовки делал, записывал в блокнот занятные идеи…
– Звучит интересно, – сказала Сара.
И все же учеба на первом курсе интереса у Цкуру не вызывала. Лекций по специальности в расписании пока было мало, а почти все остальные предметы казались ему скучными и заурядными. Но поскольку Цкуру с таким трудом поступил в этот вуз, он заставлял себя ходить на занятия. Изучал немецкий, французский, подтягивал разговорный английский. К своему удивлению, он вдруг обнаружил в себе склонность к изучению языков. Вот только никто из однокашников его ничем не привлекал. По сравнению с яркой и заводной четверкой школьных друзей практически вся студенческая братия казалось ему вялой, унылой и безликой. Ни с кем не хотелось ни дружить, ни общаться. Вот почему почти все свободное время в Токио он оставался один. И благодаря этому стал читать больше книг.
– И тебе не было грустно? – спросила Сара.
– Одиноко – бывало. Но не грустно. Ведь сам-то я считал такую жизнь вполне нормальной.
Он был юн, об окружающей жизни знал еще очень мало. Да и новый токийский мир сильно отличался от среды, в которой он вырос. Мегаполис оказался куда огромней, чем он себе представлял. Слишком большой выбор того, чем можно заняться, слишком непривычно общаются друг с другом люди, слишком быстро несется жизнь. Из-за всего этого он никак не мог настроить баланс между собой и окружающим. Но главное – в те годы ему еще было куда возвращаться. Садишься на Токийском вокзале в «Синкансэн» – и через каких-то полтора часа прибываешь в «нерушимый оплот гармонии и дружбы». Туда, где время течет неспешно и всегда ждут те, перед кем еще можно распахнуть душу.
– Ну а как ты живешь сейчас? – спросила Сара. – Настроил баланс между собой и миром?
– В этой фирме я прослужил четырнадцать лет. Меня там ценят, да и мне работа нравится. С коллегами я лажу. За эти годы спал с несколькими женщинами, но со всеми в итоге расстался. По разным причинам. Иногда виноват был я сам, иногда – не только…
– И вот ты опять одинок, но тебе не грустно.
Вечер только начался. В ресторане, кроме них, посетителей не было. Еле слышно наигрывал джаз. Фортепьянное трио.
– Пожалуй, – чуть запнувшись, ответил он.
– Но места, куда можно вернуться, больше нет? «Нерушимого оплота гармонии и дружбы»…
Цкуру ненадолго задумался. Хотя что уж теперь-то думать?
– Да, больше нет, – очень тихо ответил он.
О том, что это место бесследно исчезло, он узнал на втором курсе, во время летних каникул.
2
То лето изменило жизнь Цкуру Тадзаки до неузнаваемости. Так острый горный кряж рассекает равнину – и полностью меняет всю окружающую растительность.
Как и привык до тех пор, в первый же день каникул Цкуру собрал вещи (совсем немного) и сел в вагон «Синкансэна». Вернувшись в Нагою, заглянул ненадолго домой – и тут же обзвонил друзей. Однако ни одного не застал. Нет дома, сообщали ему каждый раз. Видно, все четверо отправились куда-нибудь вместе, решил он. Оставив каждому по сообщению, он прогулялся до центра города, побродил по улочкам, зашел в кино и убил пару часов фильмом, смотреть который хотел не особенно. Затем вернулся домой, поужинал с родней – и снова обзвонил всех четверых. Ни один еще не вернулся.
На следующий день, ближе к обеду, он прозвонил их опять, но их по-прежнему не было. Цкуру вновь попросил передать, чтобы ему перезвонили, как только вернутся. Хорошо, так и передадим, отвечали ему домашние, бравшие трубку. Но в самом тоне их ответов слышалось такое, от чего у него екнуло сердце. В первый день он не обратил на это внимания, нотакие интонации чем-то неуловимо отличались от обычных. Как будто все эти люди избегали разговаривать с ним дружелюбно. Словно каждому так и хотелось скорее повесить трубку. Особо безжизненно с ним, похоже, разговаривала сестра Белой. Она была на два года старше (и не такая яркая, но тоже красавица) и до сих пор, когда Цкуру звонил, постоянно шутила с ним. Или, по крайней мере, всегда тепло здоровалась и прощалась. Теперь же выпалила резкий ответ и бросила трубку. Позвонив по четырем номерам, Цкуру почувствовал себя переносчиком какой-то ужасной, постыдной болезни, от которого все шарахаются.
Тут явно что-то не так, подумал он. Пока его не было в городе, случилось нечто такое, из-за чего все решили от Цкуру отвернуться. Что-нибудь неподобающее, нежелательное. Ночто это может быть, он даже вообразить не мог, сколько ни ломал голову.
В груди словно засел какой-то комок, сгусток непонятной дряни, которая не выхаркивалась, но и не растворялась. Весь день Цкуру просидел дома, ожидая звонка. За что бы ни брался, все валилось из рук. Всем четырем семьям он по нескольку раз сообщил, что приехал в Нагою. Обычно после первой же такой весточки ему сразу перезванивали, и в трубке раздавался ликующий крик. Теперь же, сколько ни жди, телефон угрюмо и упорно молчал…
Наступил вечер, он собрался было перезвонить всем еще раз. Но раздумал. Наверняка же все его друзьяна самом деле дома. Просто не хотят звонить, вот и прячутся за домашних. «Если будет звонить Цкуру Тадзаки, отвечайте, что меня нет…» Скорее всего – так. С чего бы иначе вся их родня говорила такими странными голосами?
Нопочему?
Никакой возможной причины в голову не приходило. В последний раз они собирались всей командой на каникулах в начале мая. Когда Цкуру уезжал обратно в Токио, все четверо даже поехали провожать его на вокзал. И, дурачась, синхронно махали ему с перрона. Словно провожали воина, уезжавшего служить в дальний край.
А потом Цкуру написал из Токио несколько писем Синему. От руки. Белая все не могла освоить компьютер, и потому они переписывались по старинке – вручную, на бумаге. А Синий у них был почтмейстером: все письма посылались ему, а он показывал их всем. Так сберегалась куча времени и сил – не нужно было писать по нескольку писем об одном и том же. Цкуру писал в основном о жизни в Токио. Что увидел, что пережил, что почувствовал. Хотя чем бы ни занимался – постоянно думал, как было бы здорово им всем опять оказаться вместе. И он писал им прежде всего об этом. А об остальном – уже так, заодно…
И четверка друзей прислала ему несколько писем, и в них тоже не было ничего странного. Простые и подробные отчеты о том, что происходит у них в Нагое. Каждый по-своему наслаждался радостями студенческой жизни в городе, где все они выросли. Синий купил себе подержанную «Хонду Аккорд» (заднее сиденье – в таких пятнах, словно там исправно мочилась собака), все они загрузились в нее и проехались аж до озера Бива[8]. Машина пятиместная (если, конечно, не сажать туда толстяков). Все жалели, что Цкуру не было. И в конце приписка: скорей бы лето, чтобы снова собраться всей компанией. На взгляд Цкуру, сколько ни перечитывай – абсолютно открытые, искренние послания.
Спал он в ту ночь плохо. Нервы расшалились, в голове какая-то каша, хотя все видения сводились к одному. Словно разучившись ориентироваться в пространстве, он бродил по кругу, возвращаясь туда же, откуда пришел. Пока, наконец, его сознание не заклинило, точно винт с сорванной резьбой, ни туда ни сюда.
До четырех утра он не мог заснуть. Затем погрузился в какую-то дрему, но уже в седьмом часу проснулся и выбрался из постели. Есть не хотелось. Лишь выпил стакан апельсинового сока, но даже после него слегка подташнивало. Заметив, что у сына вдруг пропал аппетит, родители забеспокоились, но он сказал им, что все в порядке. Просто небольшое расстройство желудка.
И весь следующий день он не выходил из дому. Лежал перед телефоном и читал книгу. Точнее – пытался. А после обеда еще раз позвонил каждому из четверых. Без особой надежды; но от неизвестности и ожидания стало совсем невыносимо.
Результат оказался тем же. Подходившая к телефону родня – кто холодно, кто извиняясь, кто бесстрастно – сообщала ему, что друзей нет дома. И Цкуру, коротко, но вежливо поблагодарив, вешал трубку. Теперь он не просил ничего передать. В конце концов, всем четверым наверняка осточертело каждый день делать вид, что их нет. И уж по крайней мере родные, вынужденные их прикрывать, скоро начнут возмущаться. На это он и рассчитывал. Если звонить и дальше, рано или поздно они как-нибудь отзовутся.
И действительно, в девятом часу вечера раздался звонок от Синего.
– Ты уж прости, но… никто не хочет, чтобы ты звонил нам, – произнес в трубке Синий. Без какого-либо вступления. Не сказав ни «привет», ни «как дела», ни «давненько не виделись». «Ты уж прости» было единственным проявлением вежливости.
Цкуру набрал в грудь воздуха и прокрутил в голове услышанное, подыскивая ответ. Попытался прочесть эмоцию собеседника. Но тот всего лишь извещал его – формально и без малейших чувств.
– Конечно, если никто не хочет, больше звонить не буду, – ответил Цкуру. Слова эти вырвались у него почти машинально. Он хотел сказать их спокойно, однако собственный голос показался ему совершенно чужим. Голосом жителя какого-то далекого города, с кем он никогда не встречался и вряд ли когда-нибудь встретится.
– Будь так добр, – сказал Синий.
– Я не собираюсь делать то, чего от меня не хотят… – начал Цкуру.
Синий то ли горько вздохнул, то ли понимающе хмыкнул.
– …Но, по возможности, хотел бы знать, что случилось, – добавил Цкуру.
– Лично я этого объяснить не могу.
– А кто может?
В трубке повисло молчание. Непроницаемое, точно каменная стена. Слышно было только, как Синий сопит. Вспоминая его широкий, чуть приплюснутый нос, Цкуру ждал, что дальше.
– Подумай – сам поймешь, – наконец ответил Синий.
Цкуру потерял дар речи. Что значит –подумай? О чем тут еще думать? Чтобы думать еще больше, чем до сих пор, придется перестать быть собой!
– Жаль, что так вышло, – добавил Синий.
– Так считают все?
– Да, всем жаль.
– Эй. Да что произошло-то?
– Спрашивай у себя, – ответил Синий. Его голос дрогнул от горечи и обиды, но лишь на какой-то миг. И прежде чем Цкуру сообразил, что сказать, связь прервалась.
* * *– То есть больше он ничего не сказал? – уточнила Сара.
– Это был очень короткий разговор. Именно о том, что ничего больше он говорить не собирается, – сказал Цкуру.
Они сидели друг против друга за столиком в баре.
– И после этого ни с ним, ни с остальными тремя ты это не обсуждал? – спросила Сара.
Цкуру покачал головой.
– Нет, ни с кем.
Сара поглядела на него, прищурившись, так, словно увидела нечто совершенно бессмысленное.
– Вообще ни разу?
– Так я ни с кем больше и не встречался.
– Но неужели ты не хотел понять, почему твои друзья вдруг выкинули тебя из компании?
– Как бы тебе объяснить… Тогда стало как-то все равно. У меня перед носом захлопнули дверь и перестали пускать внутрь. Почему – не объяснили. Но если так действительно хотят все, то и пускай, ничего тут уже не поделаешь.
– Что-то я не пойму, – озадаченно сказала Сара. – А вдруг это произошло по ошибке? Ведь ты сам говоришь, что не находил никаких объяснений. Разве ты не жалел, что так вышло? Разве не думал, что, возможно, потерял бесценных друзей просто потому, что кто-то чего-то не понял? И что ошибку можно исправить?
Ее бокал опустел. Она жестом подозвала бармена и попросила красного вина. Из предложенного, хорошенько подумав, выбрала«Napa Cabernet Sovignon». У Цкуру оставалось еще полстакана виски с содовой. Лед растаял, бокал запотел, картонная подставка разбухла.
– Впервые в жизни меня так резко и безоговорочно вычеркнули из друзей, – ответил Цкуру. – Причем именно те, кому я доверял как себе самому. Я был в таком шоке, что ни выяснять причины, ни исправлять ошибки даже в голову не приходило. Долго оклематься не мог. Как будто внутри у меня что-то оборвалось…
Принесли бокал вина и еще орешков. Когда бармен удалился, Сара снова заговорила:
– Со мной подобного не случалось, но я могу представить, как это тяжело. Но со временем, немного оправившись, разве ты не мог что-нибудь выяснить? Ведь если оставить такую нелепость без объяснений, вся жизнь может пойти под откос! Как же ты выдержал?
Цкуру чуть заметно покачал головой.
– На следующее утро, как рассвело, я сочинил убедительный предлог для домашних, сел в «Синкансэн» и уехал в Токио. Что бы там ни случилось, оставаться в Нагое больше не мог ни дня.
– Я бы на твоем месте осталась, пока все не выясню.
– У меня тогда не было сил, – вздохнул Цкуру.
– Или желания узнать правду?
Цкуру уперся взглядом в собственные руки на столе.
– Скорее, я просто боялся увидеть, что за правда мне откроется, – сказал он, осторожно подбирая слова. – Я считал, что все равно эта правда не спасет меня, какой бы ни оказалась. Почему – сам не знаю, но был в этом уверен.
– И сейчас еще уверен?
– Трудно сказать… – вздохнул Цкуру. – Но тогда – абсолютно.
– И потому сбежал в Токио, спрятался в своей квартирке, заткнул уши и закрыл глаза, так?
– Если коротко – да.
Сара протянула руку через стол и накрыла ею пальцы Цкуру.
– Бедный Цкуру Тадзаки, – вздохнула она. От ее касания по телу Цкуру пробежала мягкая волна. Чуть погодя Сара отняла руку, взяла свой бокал и поднесла к губам.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Му(кит., яп.) – буддистская категория полного отрицания. Состояние Му – сознание, очищенное от идей внешнего мира. Чревато просветлением (сатори) и переходом в Нирвану. В практиках дзен-буддийских монахов часто трактуется как «забери свой вопрос назад». – Здесь и далее прим. переводчика.
2
Школьная система в Японии состоит из начальной, средней и старшей школ (6 лет, 3 и 3 года соответственно). Начальная и средняя школа – обязательные. Старшую школу, хотя она обязательной и не является, оканчивают около 94 % японских школьников. Учебный год начинается в апреле.
3
Начиная с 1990-х гг. так называемый средний класс составляет около 80 % японского общества.
4
Буквальные значения иероглифов: Ака-ма́цу – «красная сосна», О-у́ми (или Ао-у́ми) – «синее море», Сира-нэ́ – «белый корень», Куро́-но – «черная пустошь»(яп.). Фамилию Та-дза́ки можно перевести как «скопление утесов» (яп.). Имя Ц(у)ку́ру – фонетический омоним глагола «делать, создавать, производить».
5
«Синкансэ́н» (новая магистраль,яп.) – высокоскоростная сеть железных дорог в Японии для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании «Japan Railways (JR)».
6
Канто́ (букв. «регион на восток от заставы», яп.) – регион острова Хонсю, самая высокоразвитая и урбанизированная часть Японии, в которой расположены крупнейшие мегаполисы страны – Токио, Иокогама, Сайтама, Тиба и др.
7
Chemistry(англ.) – химия.
8
От г. Нагоя до крупнейшего японского озера Бива – около 100 км.