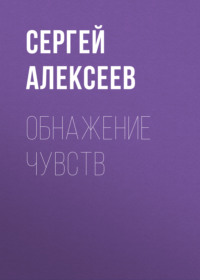Полная версия
Волчья хватка. Волчья хватка‑2 (сборник)
– А скажите мне, товарищ (имярек), отчего терпят катастрофу и падают вражеские самолеты?
Замнаркома обороны Мехлис, вероятно, уже читал сводку и знал об упавших бомбардировщиках, поэтому ответил с присущей ему осторожностью, одновременно буравя красноглазым взглядом хозяина и стараясь угадать по его реакции, в цвет ли он говорит.
– Предстоит выяснить… погодные условия, мощный грозовой фронт в верхних слоях атмосферы… а возможно, столкновение в условиях плохой видимости… я уже распорядился проверить информацию и доложить…
Верховный умел делать лицо непроницаемым и оставил Мехлиса в заблуждении относительно своего мнения.
Ворошилов сказал с безапелляционной убедительностью героя Гражданской войны и яркого представителя пролетариата:
– По моему мнению, товарищ Сталин, налицо пробуждение сознания рабочего класса Германии. Восемнадцатый год не прошел даром для немцев, и сейчас трудовые люди увидели звериный оскал фашизма. Я не исключаю, что в недрах Рейха сохранилось и действует подполье, имеющее прямое отношение к бомбардировочной авиации. По всем признакам это диверсия.
– Хочешь сказать, вредительство, товарищ Ворошилов?
Маршал слегка смутился, ибо это слово в отрицательном понятии относилось лишь к внутренним врагам и совсем нелепо было называть так немецких патриотов, рискующих своими жизнями.
– Вредительство в нашу пользу, – нашелся он после некоторой заминки.
Побывавший у Верховного в тот день конструктор авиационных двигателей Исаев как специалист заявил, что подобная катастрофа – результат эффекта резонанса, возникшего в определенной аэродинамической среде, сходный с явлением, когда от движения строевым шагом может обрушиться мост.
– А нельзя ли, товарищ Исаев, сделать прибор или машину, которая бы… искусственно создавала такой резонанс? – спросил хозяин.
Идея вождя показалась тому гениальной, и он пообещал непременно поработать в этом направлении.
И лишь один старый начальник Генштаба Шапошников, последний царский генерал в Красной Армии, спрошенный, как и все, мимоходом, так же мимоходом ответил:
– Да ведь и им должно быть наказание Божье. Не все нам…
Начальник штаба триста двенадцатой дивизии явился в кремлевский кабинет вождя с опозданием в четверть часа. Наверняка исполнительные слуги переодевали его, когда везли с аэродрома в автомобиле, где майор не мог выпрямиться, чтобы проверить длину новенькой офицерской формы, а когда вывели на улицу – было поздно: брюки оказались настолько длинными, что бутылки галифе висели у сапожных голенищ, а китель на майоре более напоминал демисезонное пальто.
Однако при этом майор не был смешон или напуган. Он отрапортовал, как положено, после чего сдернул с головы маловатую фуражку и встал по стойке «вольно».
– Товарищ Хитров… Вы по-прежнему утверждаете, что самолеты немецко-фашистских агрессоров потерпели катастрофу над линией фронта?
– Так точно, товарищ Сталин. – Показалось, даже плечами подернул. – Есть фотографии обломков, свидетельства очевидцев – местных жителей и солдат саперной роты.
На сей раз Верховный не таил внутренних чувств, и все было написано на его лице.
– Я первый раз с начала войны слышу, чтобы самолеты противника падали по причине катастрофы, а не от огня наших зенитных батарей или храбрых и умелых действий летчиков-истребителей, – внушительно выговорил вождь, медленно надвигаясь на майора. – Подумайте, товарищ Хитров. Каждый сбитый самолет… и особенно ночной бомбардировщик, на подходах к столице нашей Родины – победа для нас и поражение для врага.
– Товарищ Сталин, я сам был очевидцем, – без всякой паузы, обязательной в диалоге с хозяином, начал майор. – Находился неподалеку от села Семеновское, увидел в небе четыре вспышки – одну за другой, и через несколько секунд грохот разрывов. Была низкая облачность, но вспышки были настолько яркие…
– Это могли быть разрывы зенитных снарядов, – перебил Верховный.
– В районе Семеновского всего одно зенитное орудие. И оно не вело огня…
– Вы это точно знаете?
– Я проверял, товарищ Сталин. А потом, в боях с первых дней и на зенитную иллюминацию насмотрелся.
Верховный не стал набивать трубку, закурил папиросу и протянул коробку майору:
– Закуривайте, товарищ Хитров. И садитесь.
Тот взял папиросу, сел на ближайший к нему стул и прикурил от своей спички. Вождь отошел к окну и встал к нему спиной, глядя на серую, октябрьскую Москву. Когда папироса дотлела, он медленно вернулся к столу и, бросая окурок в пепельницу, отметил, что там уже лежит один, погашенный майором.
Обычно те редкие гости, кто получал от хозяина папиросу, стремились незаметно спрятать ее в карман или фуражку, чтобы потом показать своим близким или друзьям…
– А также, товарищ Хитров, – продолжая начатый и прерванный монолог, заговорил Верховный, – я первый раз с начала войны слышу правду. Недавно фашистский стервятник зацепился за трубу завода «Серп и Молот» и разбился – зенитчики приписали себе в заслугу. Потом ночной бомбардировщик наткнулся на высоковольтную опору и упал в реку – мои соколы включили в свою сводку, противовоздушная оборона в свою… Я слушаю их и молчу, товарищ Хитров. Молчу и подписываю указы о награждении отличившихся… Я слушаю, какие потери понес противник, складываю их в уме и тоже молчу, хотя, по моим подсчетам, мы уже истребили немецко-фашистское полчище. Если ложь на благо боевого духа Красной Армии, я буду молчать, товарищ Хитров. Я допускаю святую ложь, но для меня лично сейчас нужна правда. И больше скажу – истина. Мне товарищ Шапошников сегодня сказал – будет и фашистам наказание Божье. Как вы считаете, товарищ Хитров, есть ли… основания предполагать, что катастрофы случаются… по причинам, от человека не зависящим? Как это написано в религиозной литературе? Не небесным ли огнем сбиты были эти ночные стервятники?
– Я кадровый военный, товарищ Сталин… – Теперь майору самому потребовалась пауза. – Человек не религиозный… Но могу утверждать как очевидец. Только не небесным огнем пожгло эти самолеты, а земным.
Верховный приблизился к нему, знаком показал, чтобы майор не вставал, после чего придвинул к нему стул и сел.
– Что значит – земным?
– С земли полетели четыре красных точки, из ближнего леса на холме, – с прежней непосредственностью объяснил Хитров. – Я находился неподалеку и отлично видел. И не только я – фельдшер эвакопункта Морозова… Красные шарики поднялись над лесом, покружились и пропали за тучами. А через несколько секунд мы увидели вспышки, и потом на землю посыпались горящие обломки… Я проверил, товарищ Сталин. На этом холме всего два отделения саперов, и больше никого.
– Что там делают саперы?
– Одни роют капониры, другие месят бетон лопатами. Они тоже видели…
Верховный взял со стола трубку и принялся ломать папиросы. Майор тем временем достал кисет с табаком и газету, сложенную во много раз, так чтобы отрывать листочки для самокруток.
Офицеры перешли на солдатскую махорку, и это было совсем плохо, хуже, чем самая неприятная сводка с фронта…
– У меня к вам просьба, товарищ Хитров, – спустя несколько минут сказал Верховный. – Подберите в своей дивизии несколько таких же наблюдательных и… правдивых офицеров. Займитесь самым тщательным анализом и изучением всех подобных катастроф. Я распоряжусь, чтобы вам предоставляли секретные сводки и донесения. И обеспечили авиатранспортом для вылета на места происшествий.
Майор затушил самокрутку величиной в полпальца и встал.
– Я готов, товарищ Сталин… Разрешите идти?
– Результаты докладывать мне лично. Только мне и только лично, товарищ Хитров.
После этой продолжительной беседы Верховный ушел в комнату отдыха, открыл икону Преподобного и долго смотрел на седобородого старца. Не было позывов молиться, к тому же в последний раз он делал это, когда бежал из Туруханской ссылки и чуть не погиб в волнах Енисея. Однако и без молитвенных слов почувствовал утешение и непривычное для последних месяцев спокойствие. Уезжая на дачу, он завернул образ в холстинку и взял с собой и на том участке дороги, где встретил человека с иконой, велел остановиться, вышел из машины и прошелся по обочине. К ночи пошел снег, было темно, студено и сыро. И пусто, если не считать затаившихся в лесу солдат оцепления. Он предполагал, что слуги на всякий случай схватили старца, и через адъютанта поинтересовался его судьбой.
Наутро тот доложил, что задержанный без документов человек в настоящее время находится в ведении НКВД, содержится в отдельной камере, на все вопросы пока отвечать отказывается, и следователи полагают, что он принадлежит к религиозным фанатикам.
Майор Хитров оказался не только наблюдательным, правдивым офицером, но еще и расторопным, поскольку через несколько дней Берия как бы ненароком спросил:
– Коба, зачем тебе инквизиция? Каких еретиков ищет майор из триста двенадцатой дивизии, если в твоих руках мой аппарат со СМЕРШем в придачу? Зачем он ищет приписки потерь противника?.. Ах, Коба, у тебя и так скоро голова треснет!
Хозяин был спокоен и непроницаем.
– У ваших людей, товарищ Берия, находится один человек. Очень старый и больной человек. Задержала моя охрана…
– Есть такой, – чуя настроение, с готовностью подтвердил тот.
– Знаю, что есть… Так пусть у него ничего не спрашивают. И пусть пока посидит.
Тон хозяина был для него красноречив и понятен, как слабый, но все-таки львиный рык.
Первый доклад «инквизитора», как мысленно, с легкой руки Берии, называл Верховный группу Хитрова, состоялся через восемь дней и если не потряс, то привел вождя в молчаливый внутренний шок. Начиная с девятого октября – со дня, как ему явилась икона преподобного Сергия Радонежского, по всему Западному фронту было установлено семнадцать авиакатастроф, произошедших с самолетами противника, и пять еще оставались под вопросом, требовали дополнительного изучения. Кроме того, по крайней мере десять случаев внезапной гибели бомбардировщиков прямым или косвенным путем подтверждали данные разведки и радиоперехват. Для сравнения майор исследовал материалы и сводки по Ленинградскому фронту и обнаружил лишь единственную катастрофу «Юнкерса», который уходил от зенитного огня с рискованными для такого типа машин элементами высшего пилотажа, потерял управление, врубился в Синявские болота, развалился на три части и даже не загорелся.
До девятого октября, как ни старался Хитров, ни единого подобного случая не нашел… Майор несколько помялся и добавил:
– Есть масса устных свидетельств… когда бойцы и командиры встречали в подмосковных лесах вблизи линии фронта, а чаще на нейтралке, каких-то людей со странным поведением.
– В чем это выражается, товарищ Хитров?
– Два дня назад ночью артиллерийская разведка тридцать третьей армии искала цели, ходила в тыл противника в районе города Боровска, – заговорил он, оставаясь удивительно спокойным и невозмутимым, словно рассказывал о безделице. – На нейтральной полосе, в густом старом ельнике заметили большой костер, подумали, что немцы – их передовая в двухстах метрах, за дорожным полотном… Подползли, а у огня сидят старики. Двенадцать человек…
– Старики? – непроизвольно вырвалось у Верховного, чего он раньше себе не позволял.
– Ну да, разведчики говорят, не совсем старые, но уже не призывного возраста, лет по пятьдесят – шестьдесят. Одеты тепло, в овчинные ямщицкие тулупы с большими воротниками, хотя и не мороз еще, но все без шапок, головы с проседью… И безоружные: у одного-двух только топоры за поясами… Сидят тесно, плечом к плечу вокруг огня и держат друг друга за руки. И молчат, в огонь смотрят. Разведчики к ним вплотную подобрались, за спинами стоят, а они сидят и не шелохнутся, как статуи. Заглянули через их плечи, а огонь горит на голой земле – ни дров, ни углей… Ладно бы одному кому почудилось, а то пять человек видели и с ними офицер – лейтенант. И говорят, почему-то страшно стало, отошли в сторону, потом вообще решили уйти. Подползли к дороге, за которой у немцев передовая, стали вести наблюдение за передвижениями, и тут началось…
– Что… началось, товарищ Хитров? – поторопил Верховный, чего тоже раньше не делал.
– Оказалось, за дорогой в лесу стояли замаскированные танки противника, двадцать четыре единицы, – как ни в чем не бывало продолжал майор. – В них начал рваться боезапас. Оторванные башни летели до дороги, так что разведчикам пришлось отойти в лес. Немцы засуетились, забегали – наша артиллерия молчит, а танки рвутся… Несколько машин успели выгнать из леса на дорогу, но и их разнесло вдребезги… Разведчики под шумок еще и «языка» прихватили, раненого танкиста, и побежали назад. И на том же самом месте снова встречают этих стариков в тулупах. Только уже огонь настоящий, и сидят они вольно, греются… Подошли – они расступились, место дали, один говорит, грейтесь, а остальные молчат. Наши разведчики тоже молчат, стоят, греются, и тут один из стариков заметил, что «язык» ранен, спрашивает, мол, тяжело, поди, тащить на себе… Подошел к немцу, легонько стукнул по ране и достал осколок… Осколочное ранение было… Теперь, говорит, и сам дойдет. Когда немца привели в расположение дивизиона, у него рана уже почти зарубцевалась…
Не подавая виду, но внутренне ошеломленный, Верховный приказал немедленно отправляться на фронт в расположение тридцать третьей армии, взять этих разведчиков и попытаться пройти с ними тем же путем, если позволит сегодняшняя боевая обстановка, снять на пленку взорвавшиеся танки, а лейтенанта, бывшего в разведке и видевшего этих странных стариков в лесу, включить в свою группу.
6
Дедовскую вотчину, наследную рощу Ражное Урочище, выпилили почти подчистую перед войной, когда по округе начали открываться лесоучастки. Она не значилась ни на одной карте, была известна лишь редким местным жителям, кто любил лесные глубины и часто в них забирался, а официально на земле, где стояла мощная трехсотлетняя дубрава, числился старый заболоченный осинник. Когда же приехали таксаторы леса и пошли нарезать деляны для вальщиков, рощу обнаружили, внесли поправки на картах и выпластали чуть ли не в первую очередь для районного промкомбината, столярный цех которого выпускал тяжеленные, грубоватые стулья и столы для заседаний в стиле советского модерна. Тогда еще живший на свете дед Ражного, Ерофей, в миру известный правдивец, пришел к местному начальству и уговаривать не рубить лес в Урочище не стал, ибо бесполезно тратить слова не любил, но предупредил, мол, смотрите, товарищи, не будет добра советской власти от дубовой древесины и мебели, а беды она принесет немало.
За авторитет среди населения, за кулацкий характер, а более всего из-за жены его – красивой, царственной и обворожительной Екатерины – деда пытались несколько раз отправить в лагеря. Пока очередной следователь таскал и допрашивал самого – все обходилось, и он всякий раз с блеском выворачивался из-под любого обвинения и оставался неуязвимым, но когда вызывали его жену, тут все и начиналось. Деда арестовывали, а следователь начинал откровенно ухаживать за Екатериной. Так повторялось пять раз и совершенно с одинаковым исходом: Ерофея выпускали, иногда по причинам странным и непривычным – то следователь вдруг запьет, оправдает деда, а сам потом или застрелится, или будто бы случайно вывалится из кошевы и замерзнет на дороге зимой, или утонет в реке. А то, бывало, сверху придет указ отпустить без объяснения каких-либо причин.
Так что любовью начальства он обласкан не был, но и трогать его материалисты до мозга костей опасались из-за славы, которая вилась за Ражными с давних времен – колдовства. Если было засушливое лето, во все времена к ним приходили, чаще всего украдкой, и просили дождя.
– Добро, идите, – выслушав, отвечал старший в этом роду. – Да поторопитесь, у вас все окна и двери нараспашку, а сейчас гроза будет.
И верно, не успевали просители добежать до своей деревни, а в небе уже висит черная туча, ветер завивает дорожную пыль, куры бегут прятаться, муравьи суетятся. Еще мгновение, и ливень как из ведра – откуда что и взялось! Точно так же просили снега, если земля оставалась голой до декабря и вымерзали посевы, бывало, просили мороза, чтобы сковало реку, по которой гоняли ямщину – основной вид дохода в прошлые времена; просили тепла, урожая, здоровья, детей и получали, однако все равно в миру за спиной шептали:
– Колдуны! Истинные колдуны!..
На то он и есть мир…
И вот когда Ерофей пришел и предупредил по поводу мебели, люди в галифе и скрипучих сапогах завели на него очередное дело и начали подводить под статью. А поскольку это еще никому не удавалось, то материал собирали тайно, по крупице и скоро выяснилось, что дед говорил правду. Колдовским ли образом или еще каким вражеским, но будто в воду смотрел! Только за один год стульями из дубовой древесины, изготовленной в промкомбинате, было убито по всей стране девять человек и около двадцати получили увечья. За столами же по самым разным причинам погибло около полутора десятков начальников самых разных рангов. Это не считая того, что еще столько же сошли с ума, причем все душевно заболевшие чиновники отличались невероятной буйностью, крайней и внезапной агрессией, и, случалось, сами убивали посетителей стульями.
Никто бы о таких фактах никогда не узнал, поскольку подобной статистики не вели, если бы не попался дотошный следователь, решивший развенчать авторитетного Ерофея Ражного и показать народу, чего стоит его колдовская сила и мракобесие. Но развенчался сам и сначала пришел к нему уже почти безумный, упрашивая открыть секреты колдовства или передать их для борьбы с врагами советской власти, затем принародно пытался убить деда, стрелял почти в упор, да промахнулся и ранил двух ни в чем не повинных людей.
Когда же милиционеры скручивали его, он только молился Богу и слал анафему чародею.
Деда еще потаскали немного и отпустили, теперь уже насовсем: никто больше не хотел заниматься его делом, а жены Екатерины боялись как огня. В сорок первом году, когда сына Сергея призвали на фронт, исчез куда-то и сам Ерофей. На войну взять не могли – за восемьдесят лет было, в трудармию тоже, и тогда неведомо откуда и как побежал слушок, будто Ражный-старший подался в какой-то монастырь, замаливать прежние грехи. Вернулся он в сорок третьем совершенно другим человеком – будто прежний огонь из него вылетел. Ходил с палочкой, тихий, слабый, опустошенный и, если шли к нему с просьбами, всем отказывал.
– Не могу я, – говорил. – Силы нет. Потерпите, вот отдохну лет двадцать, может, и помогу.
Поэтому Ражное Урочище восстанавливал отец в пятидесятых годах, когда вернулся с войны и пошел работать в лесничество. После порубки на месте рощи остался редкий, убогий самосев, да и то объеденный лосями, кустообразный и убогий, ибо освобожденное от дубов место тотчас же затянул осинник и за пятнадцать лет вымахал высоко и густо, как стена. Отцу пришлось начинать все сначала: постепенно вырубать горькую осину и взращивать новый лес. Неподалеку от Урочища он сделал скрытый от посторонних глаз дубовый питомник, где проращивал желуди, откуда-то лично им привезенные, после чего нес на себе и рассаживал трехлетние саженцы с ему одному понятной закономерностью, огораживая их остро заточенными кольями от лосей.
Он спешил, потому что в год, когда посадил последнее дерево, у Сергея Ражного родился сын Вячеслав.
Восстанавливал питомник по своей воле и тайно от своего лесного начальства, в свободное время, и никто так и не узнал, какими чарами и колдовством снова возникла роща.
За сорок лет дубы в Урочище выросли толщиной в обхват одной руки, но ухоженные, поднялись стройными и высокими, с правильными и хорошо развитыми кронами и уже давно обсыпали землю дождем желудей. Размерами роща была не велика – чуть больше трех гектаров, и имела правильную, округлую форму. Ражный приходил в свою вотчину редко и в основном по делу: в летнюю пору в дубраву лезли кабаны и подрывали деревья, так что приходилось сметать желуди с ристалища, где земля была слишком мягкая и слабозадернованная, а в зимнюю бескормицу устраивать отвлекающие кормушки и вывозить туда мерзлую картошку.
По смерти отца Ражный стал хозяином Урочища, и охотничья база, клуб, аренда угодий, суета и маета с иностранными охотниками, своими отдыхающими, егерями и просто несчастными типа Героя Соцтруда – все было ради этой рощи. Надо было как-то оправдывать перед миром свое присутствие в глухих, малолюдных местах…
Он пришел сюда в тот же день, как выследил и отстрелил матерого волка, за бессонные сутки проделав путь в шестьдесят километров: сразу же с охоты в Красном Береге побежал на место встречи с поединщиком – поджимало условленное время – и как хозяин назначил время поединка и указал наконец-то месторасположение Урочища. После этого вернулся назад, снял шкуру с волка и двинул в рощу напрямую, по лесам и болотам, мимо дорог и брошенных деревень. Состояние «полета нетопыря», наследственный прием, так необходимый в поединке и составляющий родовую тайну, выхолостил его, и он рассчитывал хотя бы частично восстановить силу и энергию в наследной дубраве, иначе не одолеть противника.
Начало поединка он назначил через сутки, то есть послезавтра на восходе солнца. Хватило бы времени и на отдых, и на то, чтобы подготовить ристалище – срубить траву, вымести метлой поляну в центре рощи и взрыхлить ее верхний слой, как контрольно-следовую полосу на границе. Однако первое, что он заметил, перешагнув «порог» Урочища, – знак на Поклонном дубе, оставленный вольным поединщиком, – железный кованый гвоздь, вбитый по шляпку. Колеватый не скрывал теперь своего происхождения и рода, впрочем, здесь, в роще, уже было бесполезно и бессмысленно что-либо таить от соперника, тем паче возле Поклонного дуба. Гвоздь этот был документом, более красноречивым, чем любая грамота: противником Ражного оказался аракс из рода кузнецов, в схватках отличающихся огненной яростью, сильнейшим кулачным ударом и клещевым мертвым захватом.
Стало ясно, что Колеватый времени зря не терял и в городской гостинице не жил, да и на лабазе не сидел возле порезанных волком коров; он рыскал по лесам и искал рощу, дабы освоить ристалище, ощутить энергию пространства и сориентироваться в его магнитных свойствах. Правилами это не запрещалось; другое дело, не все засадники решались на поиски места схватки, ибо чаще всего это грозило физической усталостью и напрасной потерей времени, особенно если рощи были сосновыми – там, где по климатическому поясу не росли дубы. Потому хозяин, принимающий соперника, старался не слишком-то оттягивать срок схватки и не давать ему возможности до поединка освоиться в дубраве.
Колеватый рискнул – очень хотел победы! – и нашел Урочище. И вбил свой знак в Поклонный дуб.
А заодно засадил гвоздь в сознание…
Ражный коснулся рукой этой визитной карточки и ощутил тепло, исходящее от шляпки гвоздя, словно его недавно вынули из горна. Предки Колеватого не единожды вступали в поединки в этой роще, правда, еще старой: когда начали распиливать дубовые бревна в промкомбинате, угробили не одно полотно на пилораме. В кряжах, на разной глубине, давно вросшие и почти слившиеся с древесиной, попались несколько таких гвоздей. А также лезвий старинных засапожных ножей, стальных скребков, копейных навершений, сошников, литых и кованых медных блях – короче, множество металлических предметов, веками скопленных дубравой и никак не объяснимых с точки зрения промкомбинатовских и прочих начальников.
И не один пилорамщик пошел по статье за вредительство…
Он прекрасно понимал, что хотел сказать своим знаком Колеватый, и старался не сосредоточивать на этом внимания, но заноза прочно сидела в уставшем сознании. Следовало бы отыскать место, лечь и прежде всего выспаться, благо что начало смеркаться, но вместо этого Ражный отправился к ристалищу и по дороге на свежеразрытой кабанами земле увидел отпечаток подошвы кроссовки: гость бродил здесь всюду, осваивая пространство. А опытному поединщику, бывавшему на земляных коврах в таких вот рощах, совсем не трудно разобраться и в характере наследного владельца дубравы, хотя одна не походила на другую и каждая построена по родовой индивидуальности.
Двигаясь так от дерева к дереву и придирчиво осматривая землю, словно увлеченный грибник, он внезапно наткнулся на четкие отпечатки конских копыт – две некованых лошади пронеслись легким галопом, разрезав Урочище чуть ли не надвое. Следы были совсем свежие и насторожили Ражного: раскатывать здесь на конях могли только сыновья Трапезникова. Причем проскакали в одну сторону, обратного следа нет, и кто их знает, когда поедут назад и каким путем? И вообще, почему их понесло в этот край?..
Этих парней бы в гвардию, в кремлевскую охрану или роту почетного караула, а братьев даже в стройбат не взяли. Они же рвались в армию всеми правдами и неправдами, каждый раз при встрече молчаливыми вопросительными взглядами напоминая Ражному об обещании раздобыть пару настоящих школьных свидетельств о неполном среднем образовании. Ни сами бы они, ни отец их сроду бы не попросили о такой услуге; Ражный вызвался помочь по своей охоте, когда увидел этих молодцев, вскормленных на воле и в трудах праведных, да еще и убедил, молде, в такой нечестности нет ничего зазорного и дурного, ибо добывание свидетельств не им принесет благо, но Родине. К тому же братья умели читать, писать и считать, так что совсем безграмотными их назвать нельзя. Да еще черт дернул за язык, рассказал о пограничной службе, о своей особой бригаде спецназа, куда подбирали людей с волчьим чутьем и способностями ходить по следу нарушителей – у этих природных охотников и следопытов огонь загорелся в глазах. А когда больше для собственной забавы начал учить их рукопашному бою и вольной борьбе, они увлеклись армейской службой и приезжали на базу чуть ли не каждый день.