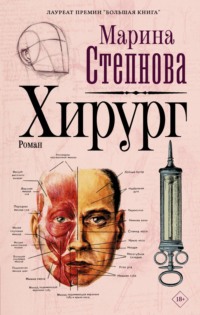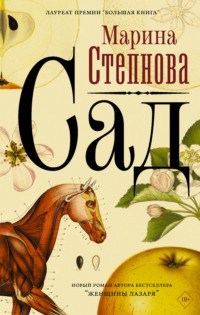Полная версия
Женщины Лазаря
Чалдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ, – уже в конце восемнадцатого года, по горло сытый молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу.
Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Чалдонову благосклонна. Брак своего выкормыша с Марусей он одобрил чрезвычайно и на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца (на цыпочках) над огромным Чалдоновым и выслушивание длиннейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди разражались все ученые коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно – тем, что по страшной своей, анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Питоврановых – иеромонаха Серафима, нисколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно, так что скисшей от смеха Марусе едва удалось спасти монашествующую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на пасадобль, не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать.
Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Чалдонов вдруг жестоко рассорились – причем по причине пустяковой и вопиюще антинаучной. Самым обидным было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих – так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Чалдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать, и это продолжалось – подождите-подождите… Господи помилуй! Восемь с лишним лет!
И вот Чалдонов, пламенея не только ушами, но и отчего-то даже носом, снова стоял перед своим старым учителем – теперь уже старым в самом прямом, мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прослезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Чалдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт – микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце. Всласть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Чалдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись, и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помирись они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я, старик, мог умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги!
Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать – тоже, да и не случилось у много лет вдовевшего Жуковского ловкой Маруси, умевшей сменять пару отличных поленьев за пару отличных же золотых сережек и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа, такая же ни к чему не приспособленная дура… Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить – ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку?
Чалдонов возмущенно замахал руками – да что вы такое, Николай Егорович, да о чем это вы, лучше послушайте, что я придумал и зачем, собственно, позволил себе к вам явиться. Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский, все так же тряся головой, заулыбался. Он помнил – еще бы он не помнил!
– Так вот, – заторопился Чалдонов, – вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную и даже промышленную основу, получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное – с отдельным финансированием, но не в этом суть. Главное – снова заниматься делом, а не этой… – Чалдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные эмгэушные муки.
– А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? – полюбопытствовал Жуковский.
– Мне не дадут, Николай Егорович, – просто ответил Чалдонов. – Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли – вам непременно доверят, вы единственный из специалистов, кто… – Чалдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него:
– Кто еще не помер да не смылся за границу.
Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая – и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочитать. Он был старый, совсем старый, его было мучительно жалко. Но у Чалдонова на руках были Маруся и Линдт. И он не собирался сдаваться.
На следующее утро Чалдонов самолично проводил Жуковского до Кремля. Старик с трудом дошел – крошечный, ссохшийся, совсем затерявшийся в огромном заиндевелом пальто, он то и дело оскальзывался, и Чалдонов едва успевал подхватывать легкое тельце, почти целиком уже принадлежащее иному миру. Аудиенция длилась долго, и Сергей Александрович совсем промерз, прогуливаясь неподалеку от Боровицких ворот. Это были верхи, до которых Чалдонова пока не допускали, невзирая на безоговорочное принятие революции. Если б они только знали, что в основе этого самого безоговорочного принятия лежало исключительно упрямство Маруси, не желавшей бросать родительские могилы и соленые огурцы, кадушечные огурцы в крепких пупырях и с хрустящими белыми жопками.
– Куда ты там собирался? В Англию? Где я возьму, по-твоему, в Англии хрен? А смородиновые листья? А дубовую кору, не говоря уж о самом дубовом бочонке! Нет, нет и нет! – Маруся сердито пролистала «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (издание 22-е, исправленное и дополненное, СПб., 1901, Типография Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3) и продемонстрировала мужу нужную страницу. – Видишь, вот тут – соленые огурцы пятым манером готовятся исключительно с дубовой корой.
Чалдонов попробовал возразить, что если в природе существуют еще как минимум четыре манера соления огурцов, то, вероятно, не стоит так зацикливаться именно на пятом, и что в Англии наверняка сколько угодно хрена, и очень возможно, что и смородины тоже, а вот Елена Молоховец – совершенно точно плохой советчик в вопросах, которые касаются жизни и смерти.
– При чем тут Молоховец! – возмутилась Маруся. – Для меня соленые огурцы – вопрос жизни и смерти!
И они никуда не поехали, конечно.
Через два часа Чалдонов уже смирился с тем, что Жуковского, вероятнее всего, арестовали или даже там же, в Кремле, расстреляли – про расстрелы рассказывали страшные вещи, совершенно в афанасьевском, сказочном, жутком духе. Только слушателям было не по пять лет и никакие попытки зажмуриться или проснуться ничего не меняли. Но спустя еще четверть часа Жуковский вдруг появился в сопровождении молодого обходительного солдатика – живой, невредимый, страшно довольный, и даже надвое разделенная борода его серебрилась, будто заправский бобровый воротник, давным-давно отпоротый и сменянный на масло, которое, впрочем, оказалось прогорклым.
Еще через несколько месяцев, в начале девятнадцатого года, специально для Жуковского открыли институтик с лязгающей аббревиатурой ЦАГИ вместо названия – очень небольшой институтик, но с очень чрезвычайными полномочиями. Компания, которая собралась там, под руководством Жуковского, со временем вся целиком переехала в энциклопедии и справочники, причем не только в советские, но и в мировые, так сказать – всепланетного масштаба умы собрались тут, господа, а это значит, что и результаты у нас сами должны быть всепланетными. Чалдонов сидел по правую руку от учителя – на правах заместителя и автора идеи. Он предусмотрительно оставил за собой кафедру в МГУ, но все основные силы, разумеется, отдавал Жуковскому, в котором, несмотря на кажущуюся дряхлость, оказался просто невиданный, почти противоестественный запас сил. Институтик под его руководством пыхтел, как кипящий чайник, активно строился, разражался блестящими идеями, выполнял правительственные заказы, попирал, открывал сияющие вершины, неистово ниспровергал.
В феврале двадцатого года Жуковский подхватил пневмонию – уже этого было вполне достаточно для того, чтобы отправиться на кладбище, но Жуковский выкарабкался, хотя, пока он плавился в старческом жару, сгорела от чахотки его дочь, даже не смейте мне сочувствовать, отрезал он, и никто не смел – да и не помогло бы, если честно, никакое сочувствие. В июне Жуковский перенес инсульт, от которого тоже умудрился оправиться, будто во время той заветной аудиенции в Кремле действительно продал душу пролетарскому дьяволу, иначе нельзя было объяснить то, что даже частично парализованный старик смог надиктовать курс теоретической механики стайке ничего не понимающих и бойких стенографисток. Он составил собственную автобиографию, сухую, скромную, небольшую, как он сам, завещал остатки роскошной когда-то библиотеки молодой советской республике, после чего немедленно заболел тифом и перенес второй инсульт, который тоже его не убил, хотя и помешал бурно отпраздновать пятидесятилетие научно-педагогической деятельности. Воистину провернуть такое было не под силу даже дьяволу. Завод закончился только в промозглом марте 1921 года – Жуковского похоронили в Донском монастыре, и ЦАГИ унаследовал Чалдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линдт.
Кстати, Жуковскому Линдт не понравился совершенно.
– Я понимаю, Сережа, он талантливый самоучка, самородок, а это всегда чертовски обаятельно…
– Гений, Николай Егорович, – тихо уточнил Чалдонов. – Не самородок, а гений.
Жуковский, как любой педагог, не терпевший, чтобы его перебивали – пусть даже и по делу, – сердито потарахтел пальцами по обеденному столу. Кабинет, выделенный ему в ЦАГИ, был еще огромнее и холоднее, чем обиталище Чалдонова в МГУ, потому работать Жуковский предпочитал дома. Так сказать, и стены помогают.
– Хорошо – пусть он гений, хотя это и очень спорный вопрос. Но, помилуйте, он же совершенно бездушный. Весь какой-то ломаный, колючий, вывернутый – только не наизнанку, а вовнутрь. Ни малейшего почтения ни к чему, никаких авторитетов, вплоть до прямого хамства.
– Николай Егорович, – снова позволил себе перебить Чалдонов. – Мальчику едва исполнилось девятнадцать. Он бог весть откуда пришел пешком – из какого-то жуткого поселения, всех его родных расстреляли, сам чудом спасся. Вы про еврейских колонистов слышали? У них и в прежние-то беззубые времена был голод и каменный век. А что там сейчас творится, представляете? Лазарь – по всем законам Божеским и статистическим – должен быть вообще неграмотным, а поди же – не только меня, но и вас в тупик умудряется ставить. А почтение в науке – сами знаете, ведет только к застою да мелкому чинопочитанию…
– Не знаю, не знаю, Сережа. Я вот вас в девятнадцать лет помню – вы тоже не из дворца прибыли, но совсем другое производили впечатление, так что на возраст и социальную среду не стоит пенять. Да, не стоит-с!
– Я никогда не был гением, Николай Егорович, – тихо признался Чалдонов и помолчал, давая Жуковскому возможность примерить это утверждение и на себя. Нигде не жало, все было чистой и грустной правдой. – Потому я вас нижайше, нижайше, самым покорным образом прошу…
– Бросьте эти глупые церемонии, Сережа! – рассердился, наконец, Жуковский, что всегда у него было признаком окончательной капитуляции. – Хотите нянчиться со своим приблудным еврейчиком, ради бога. Что вы от меня-то хотите? Чтоб я его в академики произвел?
– Только одну-единственную подпись, – обрадованно зачастил Чалдонов, – академиком Лазарь и сам станет, вот увидите, но для начала ему надо хоть какую-то бумагу об образовании выправить. У него ведь за душой ничего, кроме метрики о рождении, да и та, кажется, фальшивая. Ему хоть сейчас свой отдел в институте давай, а он у нас по всем официальным параграфам – ноль. А за вашей подписью можно ему и полный аттестат о высшем образовании выхлопотать!
– Ладно, – проворчал Жуковский. – Приводите своего вундеркинда на следующей неделе. Но сразу предупреждаю – никаких поблажек.
Поблажек и правда не было. Лазарь Линдт в чалдоновском старом сюртуке, который Маруся ловко подогнала ему по фигуре (смотрите, какой великолепный камлот, Лесик, ангорка с шелком – я всегда знала, что ему сносу не будет!), словно почувствовал неприязнь Жуковского и держался с замечательной скромностью, которая очень ему шла. Он уже оброс после первичной санобработки, но диких кудрей больше не запускал, щеголял крупной головой в гладких, каракулевых полузавитках, да и вообще больше не выглядел беспризорным оборванцем. На, прямо скажем, непростые вопросы своих маститых экзаменаторов отвечал быстро, корректно и удивительно скучно, так что Чалдонов пару раз поймал на себе насмешливый взгляд Жуковского. Хорош гений, нечего сказать. Вызубрил три учебника и похваляется.
Смущенный Чалдонов почувствовал себя неудачливым антрепренером, который собрал полное шапито для демонстрации ученой собаки, знающей четыре основных арифметических действия, и внезапно осознал, что на арене с важным видом сидит очень славная, но совершенно бестолковая дворняга.
– А вы не хотите поговорить об уравнении Максвелла для электромагнитного поля, Лазарь Иосифович? – сказал он, пытаясь хоть немного спасти положение. – Мы недавно с вами очень интересно рассуждали об этом.
– Нет, – отказался Лазарь вежливо, но твердо. – Не хочу.
– Не имеете собственного мнения, коллега? – ядовито осведомился Жуковский, очень довольный сорванным представлением.
– Имею, Николай Егорович, – признался Линдт. – Но вам мое мнение наверняка покажется неутешительным.
– Это отчего же? – уточнил Жуковский, не чуя подвоха.
– Оттого, – отчеканил Линдт, – что ни одну из проблем электромагнитного поля, а уж тем более световых скоростей невозможно решить на основании уже упомянутого вами уравнения Максвелла и классической механики. При этом вы утверждаете обратное. Зачем же я буду спорить с некомпетентным оппонентом?
Чалдонов ахнул и зажмурился, будто трамвай на его глазах зарезал беспечного и полнокровного провинциала, а Жуковский молча разинул рот, отчего вдруг стал похож на Деда Мороза из детской книжки, только очень обескураженного тем, что его разоблачили. Линдт слегка поклонился обоим – это можно было расценивать и как извинение, и как издевательство.
– Но п-позвольте, уважаемый, – пробормотал Жуковский, приходя в себя. – То есть вы хотите сказать, что… Разумеется, никакой здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что с возрастанием скорости и с приближением ее к световой величина β приближается к нулю, и, следовательно, масса тела растет до бесконечности. Все это весьма любопытно для радиологии, но зачем же впадать в эйнштейновскую метафизику, если можно прекрасно обойтись и обыкновенной механикой. Макс Абрагам давно составил уравнения движения электронов с помощью уравнений Максвелла…
– Ваш Макс Абрагам – просто неуч! – отрезал Линдт, и тут Чалдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать – простонародно ухая и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным, чудесным, старческим смешком – уютным и сухим, как рассыпавшиеся сушки.
– Ну, засранец! – пропищал он восхищенно, тыкая в Линдта желтоватой лапкой, честно говоря, очень похожей на куриную. – Удивительный засранец! На какой помойке, вы, Сережа, его нашли? Из-за стола едва торчит, а туда же – огрызается!
Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. Жуковский придвинул к себе злосчастное ходатайство, взмахнул острым, всеми цветами побежалости отливающим пером.
– Но позвольте, вдруг протянул он недовольно. – Помимо физики и математики в аттестате есть и другие предметы. География, например. Или эта… как ее, бишь… словесность!
– Это все Маруся, Николай Егорович, – выпалил Чалдонов явно заранее заготовленный ответ.
– Что – Маруся? Сдавать будет за вашего гения?
– Нет, что вы, боже упаси! Маруся лично с мальчиком занималась и, можете поверить…
– И не сомневаюсь, что занималась, – проворчал Жуковский. – Вслух, поди, сказки зачитывала этому обалдую. Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Поди, оба были без ума от удовольствия.
Он быстро поставил в нужном месте щеголеватую подпись старого педагога – обманчиво простую и круглую на вид, но снабженную таким мудрено закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе.
– Да, и не задирайте нос, засранец! – назидательно сообщил он Линдту. – Эта подпись – дань уважения Сергею Александровичу и большой аванс вам. Пробелы в вашем образовании сравнимы лишь с пробелами в вашем же воспитании. Вам придется много учиться. Очень много. Например, иностранные языки. Уверен, что вы не знаете ни английского, ни немецкого. А ведь без немецкого невозможно! Это язык большой науки!
Линдт кивнул. Немецкий действительно был полезным инструментом. Хотя бы потому, что недалеко от Малой Сейдеменухи мыкали горе немецкие колонисты – им приходилось так же несладко, как евреям, но, в отличие от последних, немцы дружили не только с головой, но и с руками. Когда речь идет о совместном покорении черствой херсонской земли, идиш и немецкий становятся особенно похожими. Кровь и пот разных народов неотличимы на вкус. И еще слезы. Пожалуй. Еще и слезы. Поэтому спорить по поводу немецкого Линдт не собирался и, стоя в первых числах августа сорок первого года в нескончаемой очереди в военкомат, мысленно раскатисто повторял из Фауста самое любимое:
Ja, was man so erkennen heißt!Wer darf das Kind beim Namen nennen?Die wenigen, die was davon erkannt,Die töricht g`nug ihr volles Herz nicht wahrten,Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,Hat man von je gekreuzigt und verbrannt…[1]Вслух нельзя, конечно – за немецкий можно было теперь и по сопатке схлопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки – знание языка противника считается преимуществом по законам любого военного времени. Его должны взять. Просто обязаны. В конце концов, ему всего сорок один! Линдт огляделся – вокруг было не так уж много откровенных мальчишек. Вон тот, например, в клетчатой рубашке, с худым, обглоданным какими-то невзгодами лицом, – ему никак не меньше сорока пяти. Почувствовав на себе взгляд, мужчина оглянулся, посмотрел на Линдта тоскливыми, в темноту провалившимися глазами. От какой судьбы ты удираешь на фронт, бедолага? С чего решил, что на этот раз тебе повезет? Мужчину толкнул какой-то крепкий мордастый парень, мазнул по лицу набитым вещмешком и, даже не заметив, оттеснил в сторону.
Очередь беспокойно шевелилась, извивалась, то вытягиваясь напряженной стрункой, то хаотично запруживая часть улицы. То там, то тут то и дело взвизгивала гармошка и кто-то принимался отчаянно плясать, словно вколачивая свой страх в булыжную мостовую. В ответ гармошке взвизгивала, не выдержав, баба, принималась голосить, оплакивая своего Вовку или Кольку, всех-всех, пока целых, пока крепких, потных, переминающихся с ноги на ногу, галдящих. Родных. Бабу тут же затыкали, и она, всхлипнув, припадала к мужниному или сыновнему плечу, отчаянно пытаясь надышаться родным запахом на всю войну. Никуда не отпущу, не отпущу, говорю, на кого ж ты меня покидаешь, милы-ы-ы-ы-а-а-а-ай! А ну цыц, дура! Не позорь меня перед ребятами, говорю!
Линдт был один – как положено, как всегда. Никто и предположить не мог его в этой очереди, и от этого почему-то было весело и радостно, будто перед… Линдт замялся. Он не помнил – когда и от чего ему в последний раз было радостно. Может быть, если бы в детстве у них в доме хоть что-то праздновали, наряжали елку, шуршали за дверью заманчивыми пакетами с подарками. Он усмехнулся. Будем считать, что ему весело и радостно, как и положено перед войной.
Линдт вдохнул поглубже теплый, коричный, почти пряничный дух московских мостовых. К осени этот город вспоминает свое деревенское происхождение и начинает пахнуть яблоками, булками, хрустящим новеньким ситцем, крепкой, медленно холодеющей листвой. Нет ничего прекраснее Москвы в сентябре, и нет ни малейшей надежды, что к ноябрю война закончится, хотя в очереди только об этом и говорили. Линдт понимал, что к ноябрю все как раз только начнется, – для такого анализа хватило бы и втрое меньших, чем у него, мозгов, но во всеобщую истерически оживленную болтовню не вмешивался. Пусть себе. Они всего лишь люди. Бедные люди. Пример тавтологии. Главное – чтобы в военкомате его не завернули назад.
Из-за угла вывернул шустрый лупоглазый автомобиль, тормознул у тротуара, ослепив будущих солдатиков лаковыми бликами. «Мамочки родные, это ж „Хорьх-853“, тридцать пятого года!» – почти простонал паренек за спиной у Линдта, будто, взгромоздившись на десяток ящиков и с трудом удерживая равновесие, добрался наконец-то до заветной щелки в стене и увидел голую девушку. Настоящую голую девушку. Нежно-бархатную, мутно-лунную, едва различимую в парном банном полумраке.
Из «хорьха», ловко хлопнув черно-белой дверцей, вышел невиданный недоросль – рослый, круглоголовый, улыбчивый, в нездешнем твидовом костюмчике. Обомлевшая толпа, не веря свои глазам, наблюдала маленький щегольской чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые – да нет, так просто не бывает! – в плотные гольфы. Бля буду, буржуй! – с восторгом матюкнулся кто-то за спиной у Линдта. Да какой! Просто буржуище! Чтоб ты понимал, поправили его недовольно. Не буржуй, а иностранец. Иностранный корреспондент. Статью будет про нас готовить.
Между тем иностранный корреспондент вальяжным манием отпустил свою невероятную машину и отправился в самую гущу очереди – все с той же ликующей, придурковатой улыбкой очень молодого и очень здорового человека, который каждое утро ест белый хлеб со сливочным маслом и розовой, слегка слезящейся ветчиной. Плюс теплое молоко, разумеется. В тонком голубовато-овальном стакане. Сытый какой, прямо боров! – позавидовали в очереди от чистого сердца.
Недоросль помялся секунду в нерешительности, а потом, с поразительной безошибочностью отыскав в толпе своего, подошел к Линдту. «Здравствуйте, – сказал он приветливо на чистейшем, чудеснейшем, сочном русском языке. – Простите, пожалуйста, что обращаюсь. Мне бы хотелось записаться на фронт, но я не знаю – с чего начать…» Линдт хотел ответить, но не успел – потому что невиданного парня тут же смыло волной народной любви. Он в буквальном смысле пошел по рукам – его хлопали по круглым твидовым плечам, приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка, хором орали, пытаясь выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. Это как же это, бля, так, выходит, ты наш? Откудова ты такой свалился? Генералов сынок, не иначе! Не, мужики, мы точно победим – гляньте, да такую морду на танке не объедешь! Точно, в танкисты его! Не, лучше в летчики. Бомбить им будем – ни одного фрица не останется. Все со страху обосрутся. Да не орите так – как зовут-то тебя, миляга? И где ты штаны потерял? Он не потерял, он из их вырос! А мамке длинные купить не на что!!!
Это было похоже на взрыв – взрыв всеобщего облегчения. Несколько часов толпа была будто фурункул – синевато-багровая, омертвелая от страха, болезненно-напряженная. Появление смешного пацанчика, одетого, как Мальчиш-Плохиш, но вполне Кибальчишного по всему остальному, словно выпустило из людей мучительно копившееся напряжение: гной, страх, липкая сукровица – все вырвалось наружу вместе с истерическим весельем. Даже в восемнадцатом году не было так страшно. Линдт точно это помнил. В восемнадцатом было по-своему весело.
Обретший имя недоросль, – Сашка меня зовут, Сашка Берензон! – сияя, как нагой румяный зад на морозе, отвечал разом на все вопросы, одновременно пытаясь открыть свой пижонский чемоданчик. В чемоданчике оказался импортный бритвенный прибор фирмы «Золинген» и два пакетика конфет грильяж. Угощайтесь! Это мои самые любимые! Таких даже в Берлине ни за что не достать! Зачем заливаю! Я в Берлине пять лет прожил.
Так тайна «хорьха», гольфов и коротких штанишек была раскрыта.
Сашка – он же Александр Давидович Берензон – оказался всего-навсего сыном дипломатического работника, молодым славным обалдуем, преисполненным патриотических порывов самого наивного толка. Пока его отозванный по военному времени папаша ворочал государственными делами где-то в Кремле, Сашка решил отправиться добровольцем на фронт, что и проделал незамедлительно. Мужики, разинув рты, слушали его рассказы о берлинских улицах и кофейнях, причем Сашка по младости лет все больше напирал на мороженое, а простодушная публика требовала историй про баб. Правда ли, что без подштанников ходят и платья насквозь просвечивают?