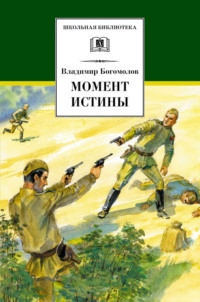Полная версия
Иван. Зося
Я вынес пакет связному – он ожидал близ землянки – и приказал:
– Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву…
Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.
Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено, – как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.
Теперь я готов был ухаживать за ним как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.
– Давай я спину тебе потру, – не выдержав, предложил я нерешительно.
– Я сам! – отрезал он.
Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку – он должен был ее надеть, – и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин – пшенную кашу с мясом.
Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.
Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.
Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок, затем так же молча выпил кружку очень сладкого – я не пожалел сахара – чая с печеньем из моего доппайка и поднялся, вымолвив тихо:
– Спасибо.
Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»… Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать…
2Стараясь не шуметь, я собрался: надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат – и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.
Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.
Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.
Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу, – ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично, – как говорил наш командир полка, «для профилактики», – каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и саму реку.
Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.
Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плёс Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..
Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении – я учил его чуть ли не наизусть, – в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «…если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже +15°, а если примерно +5°?
Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.
Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедля заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.
В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.
– Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом разобрались? – глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемета, и не курил.
– А что такое? – поинтересовался я, настораживаясь.
– Так. Думается, не просто это. В такую ночку последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец – его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.
– Да, мутность есть вроде, – подтвердил другой не очень уверенно. – Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?
– Мальчишка из Новосёлок, – неторопливо затянувшись, соврал я (Новосёлки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). – У него немцы мать угнали, места себе не находит… Тут и в реку полезешь.
– Вон оно что!..
– Тоскует, бедолага, – понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет цигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. – Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, – мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.
– Бдительный я, – глухим голосом упрямо объявил Юрлов. – И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одёжа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю – подозрительно!..
– Ишь, спрашивает, как с подчиненного! – усмехнулся пожилой. – Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся…
…Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.
К моему удивлению, мальчик не спал.
Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно: легкий пар шел изо рта.
– Еще не приехали? – в упор спросил мальчик.
– Нет. Ты спи, спи. Приедут – я тебя разбужу.
– А он дошел?
– Кто – он? – не понял я.
– Боец. С пакетом.
– Дошел, – сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.
Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:
– Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?
– Нет, не слышал. А что?
– Так. Раньше не говорил. А сейчас – не знаю. Нервеность во мне какая-то, – огорченно признался он.
Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:
– Иван!
При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.
Это была встреча больших друзей – несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:
– …Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь…
– В Диковке немцев – к берегу не подойдешь, – сказал мальчик, виновато улыбаясь. – Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила – думал, конец…
– Так ты что – вплавь?! – изумленно вскричал Холин.
– На полене. Ты не ругайся – так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло… не знаю, как выплыл.
Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу, – мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл…
Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:
– Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить – нам соглядатаи ни к чему. Вник?..
Это «Вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».
Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.
На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника – их в полку было несколько, – только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.
Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.
– Ну, где ты пропал? – однако сказал он, выказывая недовольство. – Давай еще кружку и садись.
На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.
Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.
– Со свиданьицем! – весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.
– За то, чтоб я всегда возвращался, – задумчиво сказал мальчик.
Холин, быстро взглянув на него, предложил:
– За то, чтобы ты поехал в суворовское училище и стал офицером.
– Нет, это потом! – запротестовал мальчик. – А пока война – за то, чтоб я всегда возвращался! – упрямо повторил он.
– Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!
Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.
Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.
– Ты ешь давай, ешь! – приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.
– Отвык помногу… – вздохнул мальчик. – Не могу.
К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал»: мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:
– Хорош.
Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам:
– Угощайтесь.
– Нет, брат, – отказался Холин. – После водки не в цвет.
– Тогда поехали, – вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. – Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! – потребовал он.
– Сейчас поедем, – с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. – Сейчас поедем, – повторил он невесело и поднялся.
Меж тем мальчик примерил шапку.
– Вот черт, велика!
– Меньше не было. Я сам выбирал, – словно оправдываясь, пояснил Холин. – Но нам только доехать, что-нибудь придумаем…
Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:
– Сколько же добра пропадает, а!..
– Оставь ему! – сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. – Ты что, голодный?
– Ну что ты!.. Просто фляжка – табельное имущество, – отшутился Холин. – И конфеты ему ни к чему…
– Не будь жмотом!
– Придется… Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. – снова вздохнул Холин и обратился ко мне: – Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.
Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:
– А в машине сена – целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся – и до самого штаба.
– Ну, Ванюша, прощай! – Я протянул руку мальчику.
– Не «прощай», а «до свидания»! – строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.
Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.
– Родионов, – тихо позвал я часового.
– Я, товарищ старший лейтенант! – послышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.
– Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.
– Слушаюсь! – Боец исчез в темноте.
Я обошел кругом: никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.
Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее:
– Давайте!
Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса – Холин разбудил водителя, – заработал мотор, и «додж» тронулся.
3Старшина Катасонов – командир взвода из разведроты дивизии – появился у меня три дня спустя.
Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромен, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя, – может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».
При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев – эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».
Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной, с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.
Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.
Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду, когда же пришлют настоящего командира батальона – пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.
– Ты чего, ко мне? – оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП[1] и оказывать содействие.
– К вам, – говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь. – Немца бы посмотреть…
– Ну что ж… посмотри, – помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.
Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.
Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.
За широким плёсом Днепра – сумрачного, щербатого на ветру – вражеский берег. Вдоль кромки воды – узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.
У воды на песчаной полоске того берега – пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением – я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном – тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.
– Ляхов и Мороз, – не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.
Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.
…Четверо суток назад разведгруппа – пять человек – ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на мине, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое – Ляхов (в тельняшке) и Мороз – залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.
Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.
– Забрать их надо бы… – закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.
Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.
– Ванюшка-то?.. – Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. – Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.
– Что такое?
– Да разве ж война – занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся – и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.
– Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.
– Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют – сам уйдет. Уже уходил раз… – Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается: – Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? – указывая рукой, спрашивает он.
Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.
* * *С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?
На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» – стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.
– Ты мне понадобишься! – предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.
– …к тебе подъедет Катасонов – поможешь ему!.. Он сам объяснит… И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, – наказывает Холин. – И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте…
Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка – самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.
И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:
– Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска…
Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.
Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело[2] и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит невдалеке под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом – Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.
– Ну ладно, давай! – говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. – Посмотрите всё хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду…
Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежеотрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения – траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.
При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты – основной и вспомогательные. Я показываю.
– Тишина-то какая! – не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега: отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладошке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.