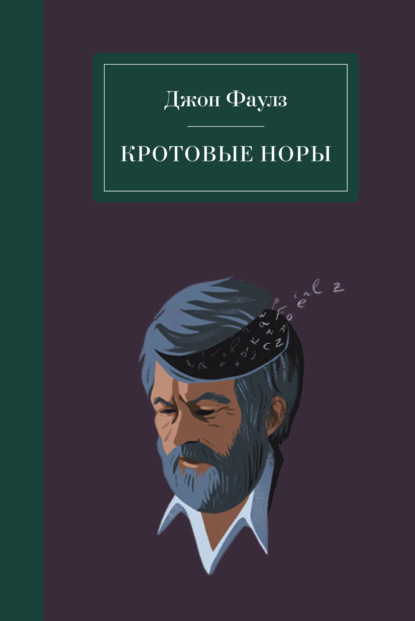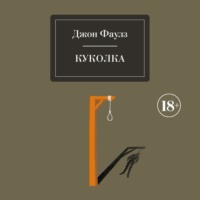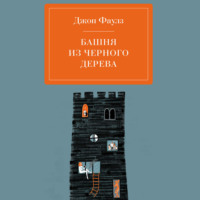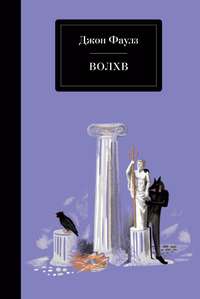Полная версия
Дэниел Мартин
Тем летом она ездила в Уитем все чаще и чаще, и мне приходилось все больше времени проводить вне дома. Я заботливо провожал ее с ребенком на Паддингтонский вокзал и усаживал в поезд, а потом с удовольствием возвращался домой – к своей работе. К концу следующей недели я отправлялся в Уитем, чтобы привезти жену и дочь в Лондон, но то время, что я проводил без них, постепенно обретало вкус свободы, отпуска, праздника. Нелл ездила в Оксфорд все чаще и чаще. Может быть, тут-то и начались наши неприятности – с этого совместного существования троих взрослых и их детей в Оксфорде, ведь Дэн оказался как бы частично отлучен от их союза, хотя тогда он этого не замечал.
С этого времени я уже не чувствую себя таким виноватым. Нелл стала закипать, как только возвращалась в Лондон, и все чаще задумывалась над тем, какие несправедливости таит в себе ее новая роль. И быстро пришла к выводу, что они гораздо хуже, чем то, с чем ей приходилось сталкиваться в издательстве; то же относится и к старой квартирке: чем дальше, тем больше и то и другое стало восприниматься как несостоявшееся прекрасное будущее, а вовсе не временное и неприятное прибежище, каким и работа, и квартира казались ей прежде. Но иногда вдруг все это вспоминалось как нечто отвратительное, с той нелогичностью, которая мне представляется одной из наименее приятных черт у особей женского пола, – так случалось, если я предлагал жене простейшее решение проблемы, а именно – попросить у ее бывших нанимателей работу на дом.
Такое сползание все глубже в безнадежность, особенно когда оба попавших в подобную ситуацию наделены сверхщедрой долей непримиримого эгоизма, стало в наши дни настолько типичным, что я не стану описывать здесь все пройденные нами этапы. Изменения в характере человека, как и в характере отношений, не заявляют о себе слишком явно: они подкрадываются постепенно, из месяца в месяц, укрываясь за ширмами примирений, кратких периодов довольства друг другом, за попытками начать все сначала… Подобно симптомам смертельной болезни, они, прежде чем выявить истинное положение вещей, рождают множество утешительных мифов.
Самым ярким проявлением этой болезни был, на мой взгляд, поворот на сто восемьдесят градусов в отношении Нелл к моей работе в кино. Она отвергала все с порога; если говорить о вышедшем на экраны моем первом фильме – вовсе не без причины. Критики разнесли фильм в пух и прах; только двое – одним из них был Барни Диллон – отметили достоинства сценария, напрочь зачеркнув все остальное. Однако новый сценарий был более обещающим, и мне доставляло удовольствие работать с Тони. Его нельзя было бы даже с натяжкой назвать великим режиссером, но он был далеко не дурак и сильно отличался – в лучшую сторону – от своего предшественника.
Сюжет этого психологического триллера строился на оригинальном замысле Тони и назывался «Злоумышленник», хотя на экраны был выпущен под названием «Лицо в окне». Тони знал, чего хочет, и умел заставить меня работать в нужном направлении; в то же время он был открыт новым идеям. Я многому у него научился, и в частности тому, как разграничивать работу сценариста и постановщиков. Нелл принимала в штыки мои восторги, когда я возвращался после совещаний с режиссером, и я стал таить их от нее… если сама она и не говорила в открытую, то отношение ее подразумевало, что я продаю себя, гонясь за скороспелым успехом и дешевой популярностью. А когда кое-что в один прекрасный вечер все же было сказано, всплыли имена Энтони и Джейн. Они, мол, не понимают, как я мог затесаться в этот продажный demi-monde[10], почему не удовлетворяюсь писанием пьес… во всяком случае, так она это изображала. Разумеется, никто из них не говорил мне этого в лицо, но я ощущал, что дистанция меж нами все возрастает, общий язык утрачивается, а нравственные ценности оказываются разными. Мир кино интернационализирует: я стал смотреть на Джейн и Энтони как на безнадежных провинциалов. Две формы крайнего упрямства противостояли друг другу: назревал конфликт, и Нелл, выступавшая в роли «пятой колонны» в моем собственном лагере, вызывала у меня возмущение.
Как-то вечером – стоял, должно быть, июль или август – я, придя домой, обнаружил, что Нелл с Каро без предупреждения отбыли в Уитем. Накануне мы долго ссорились, и утром, когда я после завтрака уходил на работу, Нелл еще спала. В конце недели я отправился в Оксфорд и привез их домой. Возможно, Энтони действительно был не в курсе дела, но в глазах Джейн, как я заметил, светился вопрос… и упрек. Нелл, несомненно, успела с ней поговорить. Я обозлился, но виду не подал. В то время я работал над вторым вариантом сценария. Произошла какая-то путаница с расписаниями актеров, исполняющих главные роли, поэтому надо было срочно начинать съемки фильма. Мне выделили комнату в конторе производственного отдела и дали секретаря на полставки. Андреа, наполовину полька, была двумя годами старше меня; она вовсе не походила на скромненькую секретаршу: уже тогда она была чуть ли не самым лучшим секретарем производственного отдела по эту сторону Атлантики – этакий бывалый полковой старшина; только в тех случаях, когда старшина пыжится и берет горлом, она проявляла такт и здравомыслие. Мне сразу же пришелся по душе ее профессионализм; невозможно было не восхититься тем, с какой быстротой и аккуратностью она перепечатывала мои наброски и тактично обсуждала их, иногда предлагая что-то сократить, или указывала на слабые места. Физически она не казалась мне привлекательной: фигура у нее была тяжеловата, и держалась она с некоторой отчужденностью, часто свойственной деловым женщинам. Я не знал, что она была раньше замужем: она редко говорила о себе. Единственное, что было в ней славянского (или, во всяком случае, не английского), – это ее глаза. Замечательные глаза, зеленые, как нефрит, иногда они казались светло-карими; взгляд ясный и прямой. Отношения наши развивались очень медленно, все началось с чувства облегчения, ощущения контраста между полнейшей неизвестностью – что еще выкинет вечером Нелл? – и уверенностью, что на работе ждет деловое и интеллигентное товарищество, дружеское участие, придающее смысл и спокойствие каждодневному существованию. Она иногда приходила, когда я показывал Тони новые сцены; он выпаливал новые идеи быстрее, чем я успевал записывать; и я заметил, что он – как и я – считает ее профессионалом до мозга костей, да к тому же еще с головой на плечах, и что ему, как и мне, хорошо, когда она тут, под рукой.
Никаких отношений вне работы у нас с ней не было. Андреа обычно выходила из конторы, чтобы купить мне сэндвичи, порой я приглашал ее в какое-нибудь местечко поближе и подешевле – перекусить. Мало-помалу она стала рассказывать о себе, о своем неудавшемся браке. Она вышла замуж за поляка, бежавшего от немцев в Англию и ставшего здесь первоклассным летчиком-истребителем. С наступлением мира он превратился в алкоголика с садистскими наклонностями и вмешался в какие-то эмигрантские политические игры. Теперь она жила со своей матерью-полькой где-то недалеко от Марбл-Арч{113}. Каким чудовищным издевательствам подвергал ее муж, я узнал много позже, но уже тогда она мельком упоминала об этом. Она была человеком сдержанным и обладала чувством юмора, какой зовется юмором висельника и окутывает кинопроизводство, как запах солода окутывает пивоварню; однако у меня создалось впечатление, что этот стиль был избран ею в качестве защитной мимикрии. Что-то в глубине ее существа было тяжко ранено этим ее браком. Я потерял ее из виду, когда мы закончили производственные дела, и мне ее очень недоставало. Я был осторожен и не так уж много говорил о ней с Нелл. Они были знакомы – виделись пару раз, и Нелл она не понравилась, во всяком случае, так мне было сказано, но к этому времени Нелл не нравилось все, что относилось к этой стороне моей жизни, однако причин для ревности даже она не смогла тут найти.
Когда начались съемки – они тоже шли на студии «Пайнвуд», – потребовалось кое-что срочно переписать. Известно было, что Тони терпеть не может работать, когда кто-то стоит у него над душой, и я старался как можно реже бывать на площадке. Мы с Андреа часто оставались в конторе одни. Я стал уходить туда, даже когда в этом не было явной необходимости. Киномир полнится слухами гораздо быстрее, чем любой другой: прошел слух, что сценарий хорош, что Тони им доволен, что я быстро овладеваю тонкостями мастерства. Что на меня можно положиться… Я грелся в лучах заслуженного одобрения. Мне хотелось овладеть и другими тонкостями дела: втайне я мечтал когда-нибудь и сам ставить фильмы.
Примерно в это время мне пришлось решать – с помощью совершенно бесполезных, зато многочисленных советов жены, – кем же я хочу быть. На подходе был еще один сценарий. На самом деле никакой дилеммы не было. Я знал (или думал, что знаю), что кино никогда не сможет всерьез заменить мне театр. Но это было интересно и приносило больше денег. Если же я хотел сказать что-то свое и по-настоящему «значительное», это могло быть сделано только на сцене театра. В новой пьесе, которую я тогда задумал (и которая потом вышла под названием «Снимается кино»), я собирался говорить об этом: о компромиссах, на которые приходится идти, о ложных ценностях и фальшивых соблазнах мира кино. Однако я чувствовал, что пока еще не готов ее написать, и к тому же я, видимо, опасался оскорбить курочку, которая несла золотые гонорары. Помимо всего прочего, я был слишком тесно связан со своей съемочной группой, чтобы придуманные мной персонажи были неузнаваемы.
Но тогда важнее всего мне было доказать Нелл, что она не права. Правда, когда я взялся за третий сценарий, в семейных неурядицах наступило временное затишье. Казалось, Нелл смирилась с моим нежеланием отказаться от «альтернативной» профессии; и если она не одобряла этого моего занятия, то не могла не одобрять деньги, которые оно приносило. Мой новый литагент позаботился, чтобы я получал не самые низкие гонорары. Я старался исполнять желания жены. Понимал, что мы слишком много тратим, но, если это могло принести в дом мир, я считал траты оправданными.
И – вполне предсказуемо: в один прекрасный день, на студии, Андреа выглядела несколько подавленной; Дэн спросил, что случилось, и она сказала – у нее день рождения, добавила что-то о том, как празднуются дни рождения, когда ты еще ребенок… как никогда не удается повзрослеть настолько, чтобы относиться к ним как к обычным дням. Дэн немедленно отправился в буфет и купил полбутылки шампанского. Она рассмеялась. Они выпили. Потом, во время ленча, Дэн объявил о дне рождения всем остальным, принесли еще шампанского… Ничего особенного не произошло. После этого они вместе вернулись в производственный отдел. На ее столе по-прежнему стояла маленькая бутылка из-под шампанского; Андреа обернулась и поцеловала Дэна. Дело было не в поцелуе: он был недолгим и нежным, и поцеловала она Дэна в щеку, а не в губы. Но что-то в чуть заметно продлившемся объятии, в быстро погашенном выражении глаз, прежде чем она отвернулась, прозвучало словно призывный колокол. Дэн почувствовал: она дает понять, что ее товарищеское отношение к нему лишь видимость. Вот и все. Кто-то вошел, а назавтра все было как прежде.
Через несколько дней, поздно вечером, Дэн и Нелл только легли и он протянул руку – одним из тех жестов, которые муж и жена привычно понимают как приглашение к близости, – как Нелл резко оттолкнула руку.
– Ну извини, – сказал он как можно более легким тоном.
Нелл лежала не шевелясь. Через несколько секунд вскочила, со злостью схватила и зажгла сигарету: преамбула, которую он слишком хорошо научился распознавать.
– Ну, что опять стряслось?
– Ты сам прекрасно знаешь.
– Разумеется. А то бы не спрашивал.
Она терпеть не могла эти мои, как она говорила, «сарказмы третьеразрядного кино». Ничего не сказала, только рывком отдернула штору и уставилась в ночь.
– Не пойму, чего ты добиваешься.
– Развода.
Дэн явился домой поздно, пришлось торопиться, чтобы не опоздать на обед с друзьями: с той самой подругой, которая устроила Нелл на работу в издательство, и ее мужем. Дэн видел, что Нелл осталась недовольна вечером, что она из-за чего-то раздражена, и объяснил это чувством зависти к подруге, весело болтавшей об издательских делах, завистью – вопреки всякой логике – к карьере, которая теперь была ей вовсе не нужна. Но развод – это было что-то совсем новое.
– Почему?
Он ждал, но ответа не последовало. И вдруг он страшно испугался: ему подумалось, что Джейн, обозлившись на что-то, могла… Он повторил:
– Почему?
– Сам знаешь.
– Из-за того, что я лишил тебя работы, которую ты терпеть не могла, когда ею занималась?
– Ох боже мой! – Она помолчала. Потом произнесла: – Здорово же ты наловчился врать. Не могу не восхищаться.
– Понятия не имею, о чем ты.
– Об интрижке, которую ты завел с этой польской коровой.
Он шумно вздохнул, вроде бы выражая презрение к смехотворному обвинению; на самом же деле это был вздох глубочайшего облегчения.
– Ну ладно. Давай выкладывай. Или письмо было без подписи?
– Так это правда?
– Никакая это не правда. Мне, правда, жаль, что ты не польская корова, а взбесившаяся английская сучонка.
– Еще бы. Только об этом и мечтаешь.
Дэн вскочил с постели и бросился к ней, но она повернулась к нему раньше, чем он до нее дотянулся. Увидел ее лицо, освещенное снизу уличными фонарями. Оно казалось одновременно испуганным и злым – одержимым. Это его остановило: он почувствовал, что перед ним другая, переродившаяся Нелл, которую он не знает и не может понять.
– Это неправда, Нелл, – сказал он.
– Ее бывший муж сегодня звонил. Кое-что про нее рассказал. Ты явно шагаешь по хорошо утоптанной дорожке: ведь торная тропа никому не заказана. Да ты и сам знаешь.
– Да он же псих ненормальный! Ей даже пришлось добиться судебного определения, чтобы он перестал осаждать ее мать! На студии все про это знают.
Они стояли шагах в шести друг от друга, лицом к лицу.
– Мне он показался совершенно нормальным.
– Ну что ж, посмотрим, что скажет суд. Вчиню подонку иск за клевету.
– А он говорит, все в «Пайнвуде» про вас знают. Только об этом и говорят.
Но голос ее звучал уже не так напряженно.
– Нелл, ради всего святого, он же сумасшедший. В прошлом году он досаждал этим ее матери. К тому же он католик… не дает ей развода, он… Господи, да как ты можешь верить в эту чушь?
– Потому что это вполне могло бы быть правдой.
Дэн отвернулся и нашарил сигареты. Должно быть, он здорово рассердился, потому что готов был с нею согласиться – и объяснить почему. Но она поспешила продолжить:
– На прошлой неделе вас видели. Ты входил к ней в квартиру.
– Я подвез ее домой. Она пригласила меня зайти – познакомиться с матерью. Выпить по стаканчику. Вот и все. Заняло полчаса.
– Только ты забыл упомянуть об этом.
– Помнится, ты в тот вечер была так полна переживаний по поводу ужасов материнства, что для нормальной беседы места не оставалось.
Это Нелл проглотила молча.
– Ты всегда ее домой подвозишь?
– Она же отвечает за производственный отдел, черт возьми! Уходит после всех. Нет, не всегда.
– Что-то ты больно много о ней знаешь.
– Имею на это полное право. Кроме того, она прекрасный работник. И приятный человек. – Он вздохнул. – Она мне нравится, Нелл. Только это вовсе не значит, что я тебе изменяю.
Нелл снова отвернулась к окну. Дэн сел в изножье кровати.
– Ты, верно, часто рассказываешь ей про взбесившуюся английскую сучонку, на которой имел неосторожность жениться.
– На эту дешевку я и отвечать не буду.
Воцарилась тишина; все это напоминало средневековые рыцарские игры: после каждого наскока ей надо было придумать новый способ атаки, похитрее.
– Ты совершенно исключаешь меня из своей жизни. Я о тебе теперь совсем ничего не знаю. Сегодня звонил Сидни. – Сидни был новый литагент Дэна. – Об этом американском предложении. А я о нем и слыхом не слыхала.
– Возможно, мне предложат написать еще один сценарий. Ничего еще не решено. И я не исключаю тебя из своей жизни. Ты сама себя исключаешь.
– Ты становишься каким-то другим. Такого тебя я не могу понять.
– Просто ты не хочешь взрослеть. Хочешь, чтобы ничего не менялось.
Она горько усмехнулась:
– Еще бы. Я просто обожаю эту уродскую слоновью квартиру, обожаю безвыходно сидеть в четырех стенах, пока ты там…
– Ну давай переедем. Купим дом. Возьмем тебе au pair{114}, помощницу. Няньку наймем. Будет так, как ты захочешь.
– Ну да. Только бы я оставила тебя в покое.
– Понял. Брошу все, буду целыми днями сидеть дома, чтобы тебе было на ком злость срывать.
Она заговорила более спокойным тоном:
– Не пойму, как это Энтони и Джейн могут обходиться без ссор и по-прежнему любят друг друга, а мы…
– Да пошли они к… – Помолчав, он продолжал более спокойно: – Если кто и завел себе интрижку, так это ты. С Энтони и Джейн.
– Спасибо.
– Но это же правда. Если тебе хотелось выйти замуж за университетского профессора и жить среди дремотных шпилей, какого черта ты…
– Ты тогда был другим.
– Спасибо огромное.
– Ты сам начал.
И так далее и тому подобное. Закончилось все это ее слезами и целой кучей новых решений. Но из этого ничего не вышло. Нелл позвонила подруге, взялась за вычитку рукописей, но очень скоро ей это надоело. Поначалу она терпела и работу, и квартиру. Потом наступил недолгий период, когда мы взялись за поиски дома, но почти сразу же выяснилось, что цены растут; к тому же ни тот ни другая не были уверены, что им так уж нравится то, что они видят. Нелл опять устремилась душой прочь из Лондона, больше всего теперь ей нужен был дом за городом. Порой, под настроение, она винила Лондон во всех наших бедах.
Пожалуй, ирония судьбы заключалась в том, что этот инцидент подтолкнул нас с Андреа друг к другу, ускорив то, что должно было произойти. Я счел, что нужно рассказать ей о том, что творит ее злосчастный Владислав; но почему-то не мог заставить себя сделать это на работе. Пришлось несколько дней подождать; потом Нелл с Каро и я отправились вместе в Уитем провести там выходные, и Нелл решила остаться до следующей пятницы; собственно говоря, в свете «новых решений» она не собиралась там оставаться, это я ее уговорил. И вот я пригласил Андреа пообедать вместе; я не стал вводить ее в заблуждение, предупредив, что мне надо сказать ей кое-что не очень приятное. Думаю, она догадалась, что именно, хотя была потрясена, когда услышала об этом, извинялась и рвалась поговорить с Нелл, объяснить… но ведь Нелл взяла с меня слово, что я ни за что не сделаю того, что сделал: ничего не скажу «этой бедняжке». (Из «польской коровы» Андреа очень быстро превратилась в «бедняжку».)
В китайском ресторане, куда мы с Андреа отправились пообедать, я наконец услышал всю историю ее замужества. Во время войны она служила во Вспомогательном женском авиационном корпусе; знание польского языка определило место и характер ее работы. Она влюбилась и быстро выскочила замуж за Владислава; его неуравновешенность тогда казалась совершенно естественной в условиях постоянного стресса: стычки, боевые вылеты, намалеванные под кокпитом свастики… Но наступивший мир, сделка союзников со Сталиным настроили его против Англии и англичан; эти настроения только усилились, когда ему не удалось стать пилотом коммерческих авиалиний. К этому времени он уже сильно пил. Вместе с ним Андреа пришлось сначала заниматься «польским вопросом», потом «католическим», потом «эмигрантским»; а тут еще выяснилось, что она не может иметь детей. В результате у нее образовалось какое-то грустно-презрительное отношение ко всему польскому (кроме матери-польки) и непреходящее чувство вины перед негодяем, за которого она вышла замуж. Теперешняя работа в кино спасла ей жизнь или по меньшей мере помогла не сойти с ума. Даже тогда я подозревал, что отчаяние, которое на работе она порой прятала под скорлупой легкого цинизма, куда глубже, чем можно предположить. Она чувствовала, что оказалась в ловушке, что выхода нет. Она была как бы и Нелл, и Дэном одновременно: Нелл – в том смысле, что жизнь не дала ей полностью осуществиться, и Дэном, так как брак ее оказался ошибкой. Андреа призналась мне, что у нее было несколько романов с тех пор, как погиб ее брак, но каждый раз получалось так, что «была задета другая женщина». Был у нее роман и с Тони, год назад (это меня шокировало: не само по себе, а потому, что такое мне и в голову не пришло). Тони женат, и дети у него есть, так что все происходило в глубочайшей тайне. В кинобизнесе все мужики – подонки, сказала она, даже самые хорошие.
Мне не следует изображать Андреа такой уж спокойно-объективной по отношению к самой себе или слишком флегматичной и бесполой. Она была «belle laide»[11], как говорят французы; ее очарование проникало в душу очень медленно. Ее фигура не казалась привлекательной, особенно рядом с двадцатилетними цыпочками, каких брали на работу продюсеры – готовить кофе, радовать взор и ублажать самолюбие. Но лицо было поразительное, особенно – глаза, самые замечательные из всех, какие я знал в своей жизни. Это давало ей некоторое преимущество, поскольку всем больше всего хотелось смотреть именно на эти глаза. Она была не из тех женщин, которых легко держать на расстоянии: было в ней что-то от femme fatale[12]:, и она сознательно этим пользовалась. Возможно, так она пыталась компенсировать недостаток чисто физических чар, какими широко пользуются более миловидные женщины. И она прекрасно понимала, что ее магнетизм действует гораздо сильнее, чем сознают это мужчины, впервые встретившись с ней. Помимо всего прочего, она была старше меня, и не только в буквальном смысле… может, из-за тяжеловатой фигуры… виделось в ней что-то такое – материнское… Не знаю.
В ответ на ее рассказ в тот вечер я рассказал ей кое-что о своей жизни с Нелл. Я не плакался; более того, даже оправдывал отношение ко мне жены в значительно большей степени перед Андреа, чем – в глубине души – перед самим собой. Думаю, тот вечер – по всей видимости – должен был лишь подтвердить, что никакие иные отношения между нами, кроме сотрудничества и доброй дружбы, просто невозможны. Я проводил ее домой, поцеловал в щечку и нежно пожал ей руку, потом взял такси и уехал; теперь я уже мог представить себе близость с Андреа, но это было бы совсем не похоже на две первые мои измены. Ни ее темперамент, ни наши отношения на работе не допустили бы кратковременной связи.
Когда в 1962 году она покончила с собой, я долго не мог выкарабкаться из депрессии. Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы виделись в последний раз, и понадобилось немало времени, чтобы я смог понять, почему эта утрата и чувство вины оказались гораздо тяжелее, чем можно было бы объяснить чисто внешними обстоятельствами. Не было даже ощущения, что, если бы те два года, которые мы пробыли вместе, закончились браком, а не разлукой – в силу обстоятельств и нежелания обоих изменить привычный образ существования, – она не ушла бы из жизни по собственной воле. Тогда я знал ее уже хорошо, знал и то, что она бывает подвержена приступам тяжелейшей депрессии. Ощущение было такое, что именно ей принадлежит последнее слово; что она вынесла приговор жизни каждого из нас, нашей профессии, всей нашей эпохе. Бог на поверку оказался отчаявшимся чужаком, страдающим паранойей; и все мы оказались членами того самого занюханного клуба польских ветеранов, расположенного недалеко от Бэйзуотер-роуд, на управление которым он потратил всю свою пропитую жизнь. Я никогда не встречался с Владиславом, но с тех пор, как умерла Андреа, постоянно вижу его образ, непреложно скрывающийся за всякой великой иллюзией.
Пассажиры в вагоне зашевелились, стали подниматься с мест. Я увидел огни уличных фонарей, их расплывчатые отражения в черной воде. В тщательно хранимом, типично английском молчании мы въезжали в самый типичный из английских городов. Оксфорд – alma mater[13], Венера-Минерва, стоязыкое чудище, вместилище надежд и амбиций; Шекспирова Верона, студенческий Эльсинор от начала времен – тех времен, что формируют личность… Не город – инцест.
Rencontre[14]
Я тотчас же узнал Джейн, еще когда стоял в очереди к билетному контролю. Помахал ей, и она на мгновение подняла руку в ответ: будто мы не виделись не шестнадцать лет, а всего несколько дней. Сорокапятилетняя женщина в кожаном пальто, отороченном мехом у горла и по подолу, без шляпы и без сумочки, руки засунуты в карманы; лицом она казалась много, много старше, чем прежде, но сохранила что-то из прежней отдельности, непохожести на всех окружающих. Даже если бы она была незнакомкой, случайно привлекшей взгляд, я непременно взглянул бы на нее еще раз. Пожилой пассажир, шедший передо мною, заговорил с ней, проходя мимо. Я увидел ее улыбку. С минуту они обменивались репликами. Ее пальто… В нем было что-то слишком яркое, отдававшее сценой. В волосах ее не было заметно седины, может быть, она их подкрашивала – они казались чуть светлее, чем помнилось мне, чуть золотистее: длинные волосы, свободно заколотые на затылке серебряным гребнем. Она сохранила тот чуточку испанский стиль, тот самый Gestalt[15], что так помнился мне с юности. Во всем остальном она выглядела как типичная профессорская жена, элегантная, знающая себе цену и вполне на своем месте в этом городе.