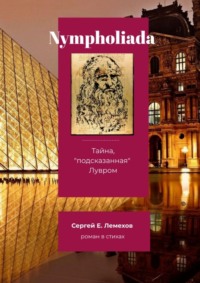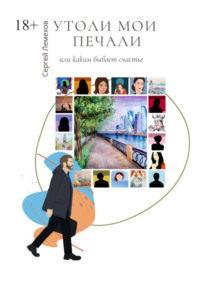Полная версия
Три истории из реальной жизни. Любовь и музыка. Трудная работа. Дорога к дому
По ресторану зазвучал чистый, добрый голос Александра Малинина. Он пел про Россию: «Белая, ах, какая белая…»
Майя взяла Владимира за руку и повлекла за собой в «зимний сад», что раскинулся за стилизованными печами-духовками в кухне. Окон в саду не было. Приглушённый искусственный дневной свет не раздражал глаза и наполнял сочную – фикусную – зелень карликовых деревьев в японском саду ещё более тёмными тонами. Она увлекла его в самый дальний от входа конец «сада». Встала, резко обернулась и замерла, выставив чуть-чуть вперёд лицо. Красивое русское лицо с бесовскими зелёными глазами. «Почему бесовскими? У Христа тоже глаза зелёные… И у беды… и у меня. У меня, как и у неё, зелёные глаза. У меня – бесовские, у неё пусть будут бедовые».
Малинин пел про Родину – белую, спокойную, желанную, снежную. Как они истосковались по ней, презирая на словах ненавистное французское слово «ностальгия»! Владимир не видел русского снега уже два года.
Тот день, что он провёл дома, в Москве, выдался тёплым. Выпавший накануне снег успел растаять, и ему достались только грязные лужи и посыпанные солью мостовые.
Теперь он слышал про снег, луну и блеск инея. Ночь, свет, снег. Чёрная ночь, по какой истосковалось сердце, стояла перед ним и глядела на него манящими звёздочками глаз, приоткрытым ртом, тонкими, но не злыми алыми губами. Какие ещё нужны были слова? Сердце в груди бешено колотилось, голова кружилась, и легкостью необъяснимой наполнилось всё его существо. Он сгрёб Майю в объятия. Именно сгрёб. Отыскал с закрытыми глазами её губы и вцепился в них – как младенец рафаэлевский припал к груди русской Мадонны. Она ответила. Затрепетала и, обхватив его за поясницу, вжалась в него животом…
Порыв необъяснимых чувств прошёл. Возвращалась ясность. Первой заговорила Майя:
– Пойдём в туалетную комнату. Ты первый. В дальнюю кабинку. Я следом. Ничего не бойся. Туалеты в ресторанах общие. К этому все привыкли. Подозрений не вызовет. Они с Курилами не заметят нашего отсутствия. Иди.
Качнувшись, всё ещё под наваждением музыки, слов и чувств, Владимир повернулся к женщине спиной и побрел в туалетную комнату, что была в пяти метрах от них. Она оказалась просторной и чистой до идеальности, с ароматическим кондиционером. Зеркала с боков, фены для рук, умывальники с хромированными кранами. Всё помещение оказалось не меньше троллейбуса по длине и шире электрички в московском метро. Сразу за дверью справа раковины – две в ряд. Слева в рост человека фарфоровые пристенки – фонтаны слёз – для тех, кто не нуждается в уединении в отдельных (трёх) кабинках, что располагались вдоль противоположной от купелей стены, сразу за умывальниками. Как и было сказано, Вовка отыскал дальнюю кабинку, зашёл в неё и почувствовал, что не зря. Время пришло. Можно, конечно, встать у стены. «А Майя войдёт? Нет, я уж лучше тут всё лишнее расплескаю». Так и сделал.
«А где же тут то, за что дёргать надо? Во дела! Мать честная! Одни кнопки и надписи по-японски! Матерь Божья! Сейчас дама придёт для любовного обряда, а у меня лимонный напи (-) ок в купели. Господи, помоги хоть раз!» Но, видно, не очень рассчитывал Вовка на силу Божью или милость. Вдарил разом по всем кнопкам и… откуда-то сбоку в него брызнула струя. Облила брюки. Гнев Господень…
– Так-то ты помогаешь? Вольфганг, тогда ты! Давай из Фигаро! – со злости Владимир ударил крышку компьютерной санитарной купели, и та, непривыкшая к грубому обращению, пала замертво, прикрыв собой амбразуру купели. За павшей в бою крышкой лыбилась хромированная ручка – запасной вариант, если электроника или мозги откажут.
– Спасибо, Вольфганг. Вот, учись! – глядя на потолок, произнес Вовка, и трудно было по тону понять, кому он завешает учиться.
Майя не шла, а время шло. «Вдруг не придёт? Вдруг посмеяться решила? Посмотреть, сколько я здесь в кабинке просидеть смогу, её ожидая? О, женщины, презренье – ваше имя. Выходит, правильно сказал поэт?.. Дурак ты. Она тактичная. Она допускает, что тебе упустить, возможно, надо. А ты сразу в панику: „Презрение…“ Как не стыдно – словам не доверять. Ясно было сказано: bitch».
Как бы в подтверждение всех слов, с мягким звучанием открылась дверь в туалетную комнату, и кто-то вошёл. Вовка замер. «Она? …Не она?». Она. Это была она, Майя.
Вовка отпрянул в сторону, давая двери открыться. Майя быстро скользнула внутрь, а дверь закрыла на механический запор. Встала лицом к Владимиру, откинулась плечиками к пластиковой стенке кабины. Ножки мысками туфель упёрлись в чуть расставленные ботинки. Он переступил с ноги на ногу и оказался в опасной близости от Венеры-соблазнительницы. Она перевела глаза на его брюки и, улыбнувшись, спросила: «Справился? Ногой и рукой?» В ответ он только мрачно мотнул головой, подтверждая догадку. В висках у Вовки стучало, пульс на шее вздувался с каждым новым ударом сердца. Майя это видела, но повела себя немного неуверенней, чем прежде. Она чуть отклонилась к стенке. Отмотала длинную полоску туалетной бумаги, скомкала её и, опустив руку к его брюкам, начала промокать водный след. При этом её руки все время касались того места, что только и ждало своей минуты, и выглянуло наконец под звуки бессмертной выходной арии «мистера Икса» в голове обладателя достояния. Долго упрашивать мистера снять маску не пришлось: Икс вышел. Проход из-за кулис освободили заботливые бедовые женские руки.
– Хочешь, я на колени опущусь? – предложила она шёпотом.
– Хочу… но не здесь. Приходи ко мне, когда сможешь. Я первым должен тебя поцеловать.
Майя выпрямилась. Затылок и плечики вросли в стенку, ноги разъехались ещё шире. Короткое платье, само сморщившись в подоле, поднялось кверху. Она помогла: подобрала платье ещё выше, до пояса, и Владимир смог увидеть на бёдрах чёрные кружевные трусишки – лоскуток, символический женский атрибут. Их даже не обязательно снимать: можно просто отвести узенький край в сторону, освободить ложе алтаря страстей, что всех других сильнее.
Владимир так и сделал. Брюки упали ещё прежде. Он даже не задумывался, как смешно и романтично мог теперь смотреться: в туалете, с потерянными, мокрыми штанами, в расстёгнутом пиджаке и белой как снег рубашке; синяя полоска галстука, свисающая как сосулька с карниза, и чёрная звёздная ночь. Бесовский, бедовый омут.
Он придвинулся к ней. Она замерла. Чуть приподняла голову. Глаза устремились поверх его головы. Руки скользнули к кружевной полоске, отвели её в сторону и остались там, где были. Он медленно, тактично – gently, very, very gently, – придвигался к ней всем телом. В моменты полного соединения она едва слышно охала. Лицо горело. Взгляд замер. Она напряглась как струна, и он должен был играть на этом инструменте, не мучая его, открывая для двоих, и, что очень важно, именно для неё, для женщины, божественность звучания нежной скрипки её души.
Майя Владимира не видела. Она ощущала себя птицей. Вот быстрый взмах крыла. Подъём на максимальную высоту, когда уже ничто не держит – можно сорваться, упасть. Затем свободные, плавные движения крыльев вниз – туда, где они встречаются в полёте. Хлопóк – быстрый разлёт. Она летела над родной Укрáиной, над заснеженным хутором, где прошло её детство и школьные годы.
Владимир понял, что его надолго не хватит, и испугался, что Майя не успеет вернуться из полета прежде его. Он начал себя отвлекать, не меняя четырехтактного ритма без первой ударной ступени: сплошное плавное легато. «Расстояние от Земли до Солнца – восемь минут, свет проходит его за сколько-то там километров. Что же надо узнать-то? Когда Майечка опалит свои крылышки? Восемь минут – это четыре тысячи восемьсот секунд. Умножаем, не торопясь, на триста тысяч километров в секунду – средняя скорость света в вакууме, – и получим… и получим… Да, получилось».
– Володя, Володя, – зашептала ему Майя, – спасибо, дорогой, что меня подождал.
– Что ты, Майечка, это тебе спасибо. За всё. С тобой я почувствовал себя человеком. А то всё как машина: компьютер и игральный автомат одновременно. Но ни одна теория, никакие богатства не могут дать того, чем можете наградить нас вы, женщины. Тебе спасибо, родная, нежная, добрая…
Долго продолжать тему не пришлось. Владимир вжался в неё и замер. Замерла и Майя, пытаясь почувствовать его внутри. Через несколько секунд оба разом выдохнули и глянули друг на друга.
– Какое красное лицо, – одновременно промолвили они, обращаясь друг к другу. Это сняло всякую неловкость, и они заулыбались, приводя себя в порядок.
– О чем ты думал? Вид у тебя был как у Феликса – архаического арифмометра. Работает исправно, надёжно, а результат приходится ждать долго. Я сдерживалась, сдерживалась, тебя вперёд по лыжне пропускала.
– Вот дела! А я тебя пропускал. Ждал; чуть было расстояние от Земли до Солнца с отраженным лучом не прошёл, а ты всё порхала, порхала… Может, повторим?
– Я бы с радостью. Идти надо – японский сад слишком миниатюрный для повторного сеанса.
– Да, ты права. Но мы встретимся? Одни. Ещё.
– Кто бы сказал… А он меня никогда не ждёт. Я потом сама всё… когда уснёт.
У самой двери она, спохватившись, его остановила. Быстро побежала в кабинку и вернулась с новым комком туалетной бумаги, смочила её. Подошла к Владимиру вплотную, начала обтирать губы от помады. «Вот: век блуди, век секú. Сейчас бы вышли к столу переговоров. Делегации могли бы решить, что мы не в саду гуляли, а любовью в туалете занимались. Народ-то у нас известно какой: думает про других только плохое», – с такими мыслями Вовка и вернулся в съестной зал.
VII
На переговорах спор не затихал. Речь действительно шла о Курилах, как это у нас называют, или о «северных территориях», как здесь, в Японии. Когда Венера и Феликс, успевшие принять обличия Майи и Владимира, вернулись к столику, наступал момент кульминационной развязки. Виктор, оправдывая свое имя, победно доминировал во всех видах программы: в языке, аргументах и фактах. Волосы на густой шевелюре Виктора топорщились, а он победно жестикулировал то по-ленински, то по-сталински. Со стаканчиком – по Ильичу. Без стаканчика – чётко по партийному, как учил лучший друг всех советских детей, матерей, бабушек и дедушек будёновских времён.
От вида всей сцены победно зазвучал в Вовкиной голове, отравленной (не) земными радостями, «Марш Черномора». От неожиданности звучания Вовкина голова заговорила сама:
– Только этого ещё с нами не хватало!..
– Кого, Володя?
– Глинки… Ивана.
Витька уцепился за последнюю фразу и начал ему выговаривать:
– Форменно, Ванькú. Ты послушай, что он говорит: верните и всё. Ни фактов, ни аргументов – одно голое желание и японское, чтобы не сказать ослиное, упрямство.
– А-а, вы всё про это? – протянул Вовка и сел напротив дамы, уставился на неё и отрешился: не замечал и не слышал никого; видел только её… и вспоминал дорогую сердцу, любимую, единственную, далёкую женщину – жену Оленьку, что ждала его в Москве. Он никого больше не слушал и не слышал…
Виктор продолжал победный марш:
– Если вы ставите вопрос в плоской проекции – «отдай и всё!», – то я предложил бы вам, прежде всего, взглянуть на вектор в целом. Тогда станет ясно, откуда мы вышли, как пришли к нынешнему статусному состоянию и куда от него в дальнейшем стремиться будем. В плоскости всего не видно – потеряно. Это первое. Откуда вышли – знаем: до Москвы «от границы мы Землю вертели назад – было дело сначала. Но обратно её закрутил наш… Главком, оттолкнувшись ногой от Урала». Дальнейшее известно: Сталинград, Варшава, Берлин, Прага, суд, Сибирь, Манчжурия, опять суд, снова Сибирь и – не гуляй, самурай, не твой это край.
– Отдайте, отдайте назад всё, что отвоевали! – тянул, мотая головой, хмельной японец, бывший самурай.
– Во вам! «Создайте условия!» – недипломатично вспылил Виктор и сунул под нос самураю кукиш образца бесподобного инженера Талмудовского, держателя патента на этот бессловесный, убийственный аргумент.
– И вам, и вам!
– А нам-то что?
– Денег вам – во! – столь же сноровисто, как Виктор, самурай вернул кукиш к лицу русской делегации. Оскорблял.
– Нет, ты видал, Вовка, ещё и хамит! Когда просят, говорят: «Пожалуйста».
– Вот вам, please. Скажите, Владимир, отдать или не отдать, please?
Ничего Владимир не видел: он был далеко. На секунду выйдя из прострации, он поймал за хвост последнюю фразу самурая и кивнул головой: отдать. Он всегда так делал, когда не понимал вопрос: нейтрально соглашался в тон говорящему. «Повторит – отвечу нормально». Не повторил самурай.
– Не отдать! Ты его, Самура-сан, не слушай. Он негосударственный человек. И острова вам отдаст, и денег не возьмёт. Его кроме баб и науки ничего не интересует. Космополит гаремный. Не слушай его. Он вас до добра не доведёт. Меня слушай: «не отдавать!», а деньги – аригато, милости просим; укрепим доброе враждососедство. Деньги – зло, они вас портят, избавляйтесь от них легче, а это значит давайте нам. Ничего нет проще, чем растворить ваши деньги в нашей экономике. Себе и нам поможете. Опять пришли к компромиссному решению: «деньги – да, острова – нет».
– Отдайте! …Пожалуйста, «уважае-масс».
– Опять ты за своё. Я могу назвать целый ряд причин, по которым этого делать не следует. Но остановлюсь только на двух, картечных. Обещаю: больше просить острова не будешь.
– Буду. Отдайте. …Пожалуйста, «уважае-масс», – угрожал, требовал и просил самурай, прошедший Манчжурию, Сахалин и Сибирь, освоивший русский язык, женившийся на русской казачке, но так и не образумившийся умом.
Виктор перебил:
– Из всех причин не отдавать важнейшими для нас являются две: икра и крабы.
– ??? …Едим, чёрную едим.
– Каспий трогать не будем: там свои проблемы. Об этом я не с тобой говорить буду, а с Am-guysи – «Albi-nonsense»амии (англичанами).
– Okay, не едим, и какой из этого следует вывод?
– Икру вы не едите. Факт. Она у вас дешевле селёдки и воблы. Требуха дороже стоит. В России к кабачковой икре народ больше уважения питает, чем вы к кетовым слезам. Над вами лосось в голос смеётся. Дополнительное обстоятельство: вы – жадные. Это ясно на примере с деньгами: имеете, но не даёте. Всё условия ставите, – Виктор укоризненно покачал головой, глядя из-под бровей на японцев. После паузы продолжил:
– Теперь следствие: вы поставите сети, введёте для рыбы паспортный режим и будете ловить её единолично. Американский флот с авианосцем Эйзенхауэром станет на якорь в бухте Спокойствия и начнёт ваш промысел охранять. Им икру, вам – требуху, а Россия лишится ещё одного своего национального символа. Из сверхикровой державы перейдёт в разряд третьерыбных стран. Это те, что сами не ловят и у других не покупают. Денег нет.
– Мы дадим.
– Как вы даёте, я видел. Стыдно так давать: кукиш к лицу. «Уважае-масс».
– Хорошо, а с крабами что не так? Крабы-то как на острова залезли? Они все у ваших берегов.
– В том-то и штука. Вы – единственный народ в мире, который по деньгам ценит крабов больше, чем стоит купить ракету «Стингер» и послать её в Израиль. Мы крабов ловим в Охотском море и вам продаём целиком, неочищенных, по пятьдесят-семьдесят «капустных листов». Вы их очищаете, лапы и клешни съедаете, а мясо, что на спине под панцирем, прессуете в крабовые палочки и как отход производства по символическим ценам откидываете нам для дальнейшей, полной утилизации. Мы – голодные, задавленные перестройкой, – берём. Где вам нас понять? Крабов мы кормим рыбой – той, что у вас отбираем; у браконьеров, нарушителей границы. Ту дрянь, что вы ловите, у нас люди не едят. Голодать будут, помирать, а не съедят. Мойву в России и кошки не едят, только крабы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.