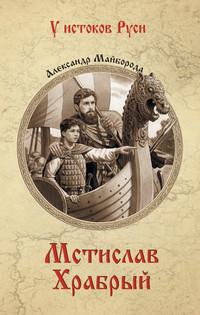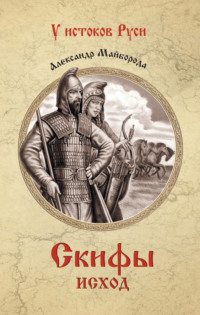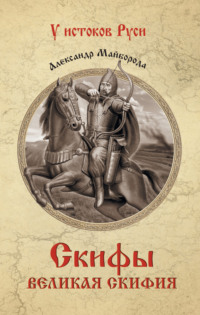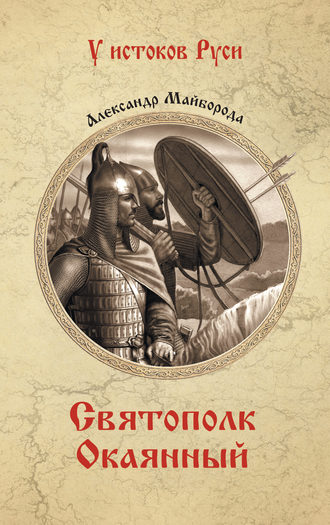
Полная версия
Святополк Окаянный
Под навесом тускло и тепло горела лучина. В ее свете Векша в лохматой овчине мехом вовнутрь, наброшенной поверх белой просторной рубахи, в полотняных портках и босой, подсыпал овса в ясли для лошади. Босые ноги от холода покраснели, и Векша, чуя, что пальцы отмерзают, мелко приплясывал, поругиваясь на себя. Поленился, старый черт, ноги в старые лапти воткнуть.
Лошадь, оголодавшая за ночь, нетерпеливо бодала его руку головой. С лошадью Векша разговаривал ласково, кормилица:
– Ну, ну, хорошая, не торопись. Накормлю я тебя, Ласточка. Дай мне подсыпать овса.
Векша коренастый мужик, но росту невысокого. Его лицо заросло тощей бородой какого-то пегого цвета. Когда борода вырастала слишком длинной, он обмахивал ее большими острыми овечьими ножницами, оттого она и торчала клочками.
Заметив Микулу, он недовольно пробурчал:
– А ты чего вскочил? Рано еще… Марфа еще не доила корову.
Векша тронул ладонью, к которой пристало несколько золотистых семечек овса, и его маленькие глазки ехидно прищурились:
– Али ночью русалки спать не давали? – задел он.
Микула почувствовал, как его лицо залилось жарким огнем, и забормотал негодующим голосом:
– Какие русалки? Спал я. Петух закричал, я и проснулся.
Глаза Векши совсем превратились в щелки, сквозь которые блестели едва заметные зрачки, и впалые щеки затряслись в беззвучном смехе. Он добродушно проговорил:
– Ну и крепок же ты дрыхнуть. А я бы русалку мимо не упустил, особенно если она сама влезла ко мне на сеновал.
Микула догадался, что Векша как-то узнал о ночной гостье, и ругнулся про себя:
– Во, глазастый черт! Все замечает. Теперь от его зубоскальства не спасешься».
Тут же он сообразил, что Векша все же не знает, кто приходил к Микуле, но если Одарка проболтается о своей ночной вылазке, то будет обоим плохо. Одарке – даже хуже, девке не положено шляться по ночам по сеновалам, где парни спят. Но ведь известно, что женщины болтают не от ума, и рот им не зашьешь. Хозяйки они… И не только языка.
Да и Векше о том, что он видел, не следовало бы болтать при людях.
За разговором Микула и не заметил, как его перестала бить крупная дрожь, – вроде даже потеплело, показалось ему, – и опасаясь, что Векша в своих рассуждениях доболтается до истины, Микула попытался увести разговор от опасной темы.
Он придал лицу озабоченное выражение и проговорил:
– Сегодня будет сухо. Надо бы на поле поторопиться. Там еще много убирать.
Векша перестал щуриться. Ночь прошла, а с ней и сладкие сны. Теперь пора браться за дело. Год оказался удачным: дожди выпали, когда нужно, а в нужный момент наступило тепло. Теперь надо поторопиться сжать поле, чтобы жито не осыпалось под осенними дождями.
– Микула, пока я запрягаю лошадь, сложи в телегу серпы, вилы и все, что еще нужно, – хозяйственно распорядился Векша и мотнул головой в сторону избы. – Марфа уже встала. Сейчас подоит корову и поедем на поле.
Распорядившись, Векша поскакал в избу, как молоденький козел, высоко поднимая замерзшие ноги.
Микула быстро покидал в телегу нужные орудия. Их искать не надо было, – все висело рядом на стене на толстых деревянных гвоздях, вбитых в бревна, либо было заткнуто под соломенную стреху.
Когда он закончил работу, небо на восходе зарозовело. Послышалось шипение черной птичьей стаи, с утренним дозором облетавших лес, поле и дорогу. Это были вороны, сбившиеся в одну стаю.
Микула неожиданно громко тюкнул на ворон и поспешил в избяное тепло, пахнущее полынной горечью и тяжелым людским духом.
Глава 9
За славным городом Киевом кончался бескрайний лес, покрывающий темно-зеленым одеялом огромную Русскую землю, на которой жили разные люди, называвшие себя по-разному: древляне, туровцы, кривичи, радимичи, вятичи, ятвяги и другие. Но пока никто на этой земле еще не называет себя русским.
Русская земля окружена многими опасностями. С востока ее терзают варвары-кочевники, с запада другие варвары: поляки, тевтоны, чехи. С юга – цивилизованные греки. Но варвары ли они, «цивилизованные» ли, но все они желают разорения Русской земли. Лишь с севера нет опасности, там льды и ночь.
Сказители-кощунники бают, что после того как сыновья бога неба Урана разделили его царство, по жребию местность у океана, где находилась самая высокая гора, получил Атлант. В те времена там было тепло, и растения и животные плодились в изобилии. Тогда были счастливые времена, и люди не ведали ни бед, ни холода, ни голода. И Атлант учил людей различным наукам, земледелию, врачеванию и астрономии. И были у них искусства.
Но для чего земным существам наука о далеких звездах? Они не знали, так как смотрели в землю. Но пришло время, и вечное зло напало на Атлантиду. Была большая битва, где боги метали друг в друга звездами, и поглотил бесконечный Океан счастливую землю. И не осталось от нее и следа, а те, кто остались живы, ушли в другие места. И остались от них потомки, рассеявшиеся по Русской земле. И зло правит на земле.
Но радуют сказители-волхвы, – счастливая земля цела, и вход находится рядом с нами, но только путь в нее закрыт колдовскими заклятиями. И живут там только умершие души, подобные туману. Живому нет туда пути. Но настанет время, и придет богатырь, который разрушит черные чары. И зло падет. И заклятия спадут и откроется путь в потерянную землю. И тогда умершие вернут себе земной облик, и воссоединятся родители и дети, и любящие друг друга. И настанет блаженное время, как прежде. И это блаженство будет продолжаться вечно…
С юга, где в степи по берегам Днепра бродят отряды диких кочевников, Киев оградился Белгородским городком.
Через Белгород тянется широкий шлях. Земля на дороге колесами повозок разбита в пыль. Пыль теплая и мягкая, как лебединый пух. С обеих сторон дорогу ограждает стена дремучего леса.
Проезжие и прохожие опасливо посматривают на лес. Хотя лес и кажется пустынным, но из его черноты чувствуются внимательные взгляды невидимых глаз.
В лесу живет множество опасных существ: и зверей, и разной лесной нечисти – леших, кикимор и прочих. Звери нападают на отставших людей и убивают их. Лесная нечисть околдовывает и сосет кровь и мозг или забирает в вечное рабство. Это уж как кому нравится.
Но в лесу опаснее всех человек. Звери и нечисть убивают, когда голодны. Человек же убивает из развлечения.
Поэтому, перед тем как войти в лес, путники вешают на сучья старого ветвистого дуба, раскинувшегося там, где кончается поле и начинается лес, разноцветные тряпочки в дар лесным духам, чтобы те, в случае чего, оборонили от беды.
Но лес не такой уж и дикий, как кажется со стороны, – чуть в стороне от шляха, на огромной поляне за деревьями виднеется золотистое поле спелой ржи. На поле виднеются запыленные пятна людей, режущих серпами рожь и связывающих пучки в снопы.
О том, кто построил первую хижину в этом диком месте, сельчане говорили смутно. По их словам, давным-давно здесь проходил сын Ноя Мунт, которому досталась северная сторона. Устав от жары и жажды, Мунт последовал за оленем в поисках воды и прохлады. Под старой плакучей ивой он обнаружил источник невероятно сладкой воды. Отдохнув, он назвал это место «Головка» и заложил здесь селение. Ныне живущие здесь селяне считают это место святым, и среди них бродит тайный слух, что где-то в этих местах и спрятан вход в блаженную землю Атлантиду.
Векша стоит среди высокого, ощетинившегося до колен золотыми иглами жнивья и обеспокоенно окидывает взглядом поле. Снулое, как старый медный таз, осеннее солнце припекает из последних сил по-летнему. Разжарившийся Векша распахнул дырявый посеревший от времени зипун и подставляет тощую бороденку тянущему со стороны далеких мазурских болот прохладному сквозняку. Бороденка шевелится степным седым ковылем. Поостеречься надо бы Векше, осенний мазурский сквозняк гнилой, несет с собой лихоманку. Тощее лицо Векши озабочено, некогда ему.
Микула догадывается, что он прикидывает, что даже после того, как он отдаст положенную часть урожая князю, у него останется достаточно, чтобы пережить зиму, и даже сделать хороший запас на следующий год. Надо только его припрятать как следует от алчных княжеских глаз, – в лесу хватает места для схронов, – и тогда голод, который долгое время нависал над Векшиной семьей, забудется, во дворе станет весело, и не будут умирать малые дети – будущее семьи.
От мыслей о предстоящем запасе на душе Векши становится радостно, и в его куцей бороденке блуждает невольная красногубая улыбка. Но, боясь спугнуть удачу, он, поглаживая бороду, поспешно стирает заскорузлой ладонью улыбку и строго кричит на горбатящихся женщин, склонившихся над рваной полосой несжатой коричневой ржи:
– Ну-ка, бабы, пошевеливайтесь, день уж клонится к закату, а у нас еще и половина поля не сжата! Торопитесь, бабы, – задорно кричит Векша, – торопитесь, уберем урожай и будут вам в лютый холод, когда даже нос страшно высунуть за дверь, толстые лепешки с медом. Будете в сытости льняное полотно ткать, шерстяную пряжу сучить и славить богиню плодородия Макошь.
Сгорбленные женщины, предчувствуя зимние утехи, радостно смеются и еще торопливее машут серпами, грозя отрезать себе пальцы, они срезают сухие стебли, вяжут стебли в пучки и бросают их за спину. Бросают не глядя, куда они падают. Там малые дети при деле, – тут же подхватывают снопы и оттаскивают на телегу. Все при своем деле. Все, как в муравейнике.
Микула, как взрослый муж, помогает Векше складывать снопы в воз. Но он еще не так силен, чтобы бросать на верх воза охапки снопов. Векша, скинув серую свитку на колесо и обнажив тощее, жилистое, как у старой лошади, тело, с неожиданной силой швыряет снопы наверх сам. Микула на возу, утонув по пояс в соломе, только ловко ловит снопы и укладывает ровным порядком вокруг себя.
Они торопятся, чтобы поспеть за женщинами. И как только воз заполняется огромным горбом, Векша перетягивает груз пеньковой веревкой и гонит в деревню, – несколько изб, огороженных частоколом поверх земляного вала. Здесь он сваливает снопы в своем дворе на ровную, закаленную горячим солнцем, до каменной твердости, площадку. На этой площадке сжатое жито досохнет.
Конечно, лучше было бы оставить рожь в снопах на поле, здесь и ветерок обдует, и солнце пожарче. Но оставлять на поле сжатый урожай неразумно, в лесу слишком много жаждущих чужого добра. Но больше всего – от завидущих боярских глаз следует держаться подальше.
К вечеру почти все поле сжато, и у Векши радостно дрожит сердце. Удалось убрать все, теперь остается только подсушить, обмолотить и спрятать зерно в тайники. Но все это можно будет сделать позже.
И уже Векша укладывает на телегу верхние снопы, как замечает бредущего по дороге мимо поля человека в черной одежде.
По дороге ходят разные люди. Но добрые люди в черной одежде не ходят. Поэтому Векша делает вид, что не замечает путника.
Зато черный путник заметил работающих на поле людей, сошел с дороги и направился к ним. Приблизившись, он, видя, что на него не обращают внимания, некоторое время стоял в стороне и смотрел на работающих людей, затем размашисто перекрестился и громко проговорил:
– Бог в помощь вам, люди!
Векша отметил, что на местном наречии черный человек говорил не очень уверенно, и сделал вывод, что это грек и христианский монах. После того как Владимир объявил всех христианами, их стало много ходить по земле Русской.
Векша недовольно покосился на грека и поморщился. Думает зло. Эти бездельники шатаются по земле и требуют себе все, что им ни попадется на глаза, толку от них никакого. А у местных людей свои боги: Род, прародитель богов, творец мира; Белобог, бог добра, плодородия; Велес – бог скота, мудрости, соперник Перуна; Ярило – бог весны, пробуждающейся природы, любви; Сварог – бог неба, солнца и огня; Даждьбог – бог плодородия и солнечного света, живительной силы; Лада – богиня любви и брака. Главный над ними Перун – бог грозы. Понятные боги и близкие. Векша недавно молился им, и он знает в дремучем лесу тайное место, где стоят кумиры. Еще недавно и князь Владимир молился старым богам. Но поругался он с княгиней, больше смахивающей по облику на греческую монахиню, и, чтобы помириться с ней, откинул чудной номер: напившись до одури, с помощью дружинников-христиан загнал в холодные воды Днепра жителей Киева и объявил всех жителей христианами.
Зло глядя на монаха исподлобья, Векша тоже старательно обмахнул себя крестообразным широким движением. Он старался, потому что хорошо помнил, что Владимир велел всех, кто не крестится по-христиански, топить в реках, а если реки близко нет, то рубить головы. Если не перекреститься, монах обязательно доложит князю, поэтому лучше не полениться и помахать рукой. Хуже от этого не будет.
Монах смахивал на высохшую жердь и был почти на голову выше Векши. Черная одежда висела на нем, как на колу. На его голову накинут колпак, из-под которого, как лисий нос, торчит хищный горбатый нос. Борода на его подбородке кучерявится проволочно-черным каракулем, как у бабы на неприличном месте.
В одной руке он держит покрытый трещинами и грязью посох из вишневой ветки. За его спиной на тонких тесемках горбом торчит тощий полотняный мешок.
Заметив старание оборванного и покрытого грязью дикаря, монах скинул капюшон и открыл лысую, как бесплодный солонец, голову.
Закинув нос вверх, так что стал похож на ворона, готовящегося клюнуть мертвеца в глаза, монах презрительно кивнул головой.
– Спаси тебя Бог! – пропел гнусаво и ткнул в нос аборигену руку для поцелуя.
– И тебя спаси, – ответил Векша, сделавший вид, что не понял движения монаха, – руку целуют только князю, – и сердито отвернулся в сторону баб и детей, которые продолжали работать, не догадываясь перекреститься.
Монах отвел руку и обдал спину Векши презрительным холодом.
Заметив это, Микула, закопанный по пояс в снопах, также поторопился обмахнуться крестом. Он видел, что монах непомерно горделив и заносчив и непременно желчь свою изольет на голову хозяина, чем обозлит его. А в ожесточении Векша не сдержан на руку и может запросто перепоясать кнутом.
Женщины, наконец, тоже заметили монаха, бросили работу и теперь стояли, широко открыв рты.
«Хлестнуть бы их кнутом по гладким задам, чтобы не бездельничали…» – мелькнула в голове Векши разумная мысль.
Монах же перекрестил поле и всех находящихся на нем. Те замельтешили крестами. После этого монах, довольный произведенным эффектом, присел на колесо телеги.
Женщины, придерживая подолы, сбежались к телеге и кучкой, как перепуганные куропатки, стали ждать, что скажет монах.
Монах намекнул ладанным голоском:
– Жарко. Водички бы…
Жена Векши Марфа, широкая в плечах и высокая, с лицом, как круглый, только что испеченный блин, тут же, по-молодому мелькая грузными пятками, угодливо сносилась в шалаш на краю поля, где прятала свои запасы и воду, и притащила монаху сухую тыкву с водой.
Векша недовольно нахмурился. Слишком раболепно мечется Марфа. Но бабам новая вера нравится, и они в ней чрезмерно усердны. И это не нравится мужу, всю жизнь молившемуся своим богам.
Микула не раз замечал, что Векша, когда его никто не слышит из чужих, насмехается – бабы ходят в церковь не столько молиться новому богу, сколько поболтать между собой.
Монах запрокинул голову под тыквой, и на его горле змеей заходил треугольный острый кадык. Он держал тыкву над красными толстыми губами, не прикасаясь к ней. Вода из тыквы выливалась чистой прозрачной струей, клокотала и исчезала в глотке, как в черной пасти ненасытной Харибды.
Вскоре струя прервалась, и последние капли, как горькие сиротские слезы, исчезли внутри монаха.
Монах небрежно уронил тыкву на затвердевшую землю.
– Вода хороша, – признался он, – необыкновенно хороша. Нигде такой не пивал.
Марфа, расплывшись в радостной улыбке, как жидкое тесто по горячей сковороде, зашкворчала, хвастаясь:
– Нигде такой воды нет. Наша вода самая лучшая на свете!
Монах невинное хвастовство женщины пропустил мимо ушей. Вытерев засаленным рукавом замочившийся кучерявый подбородок, с намеком заметил:
– Но водой сыт не будешь…
Через мгновение стараниями простодушной бабы в одной руке монаха находился огромный ломоть хлеба, в другой кувшин с молоком.
Векша, сделав вид, что поправляет снопы, скрылся за возом и незаметно сплюнул – пропал ужин. Марфа сдуру отдала последнее.
Бабы почтительно смотрели, как монах, сидя в тени телеги, пил молоко прямо из кувшина. Солнце клонилось к закату, надо было торопиться доделать работу, от которой зависела будущая жизнь, но никто не смел тревожить монаха. А монаху было все равно, доживут ли эти варвары до следующего лета или умрут. Он думал над тем, что неплохо было бы заложить в этих диких, но красивых местах монастырь.
Впрочем, думал он, народу в этой окраине водится очень мало, и монахам тяжело было бы выжить без подношений со стороны. Поэтому лучше идти дальше, где говорят, лежит страна богатых городов.
Доев хлеб и выпив молоко, монах довольно рыгнул, отставил, не глядя, в сторону пустой кувшин, где его перехватила Марфа. Поднявшись, трижды старательно перекрестился и бросил строгий взгляд на детей Векши.
– А чада-то в молитвах неисправны, – недовольно изрек он, припомнив их медлительность.
Даже сквозь бурый загар на лице Векши стало заметно, что он перепугался и побледнел.
– Ну что ты, что ты! – зачастил он, мелко крестясь трясущимися пальцами. – Исправны, просто еще глупые.
Монах, довольный, что испугал смерда, назидательно проговорил:
– Чад надо воспитывать, сечь розгами. И почаще. – Он поднял палец: – А ты знаешь, какое испытание предстоит тебе скоро?
Векша совсем обмер и присел от страха.
– Какое? Неужели печенеги?
– Глупый смерд! – раздраженно бросил монах. – Знай, скоро наступит конец света. Наступает тысячелетие после рождения Христа. Придет антихрист, мор. С неба будут литься огненные реки, болезни.
Векша побелел от страха, бороденка затряслась осиновым листом. Бабы тихонько испуганно завыли. Марфин блин сжался и потемнел.
Один Микула не испугался. Он знал, что монах заученно повторял слово в слово, что написано в Библии. Все это Микула много раз читал в греческой Библии.
Микула едва заметно улыбнулся и тут же постарался погасить улыбку под широкой ладонью. Нельзя, чтобы его улыбку заметил монах, если конец света еще неизвестно, будет или нет, то порку смешливому отроку он может устроить запросто.
В непокорную голову Микулы пришла греховная мысль. Христиане на словах проповедуют смирение и прощение, однако в жизни, чтобы вбить свое учение, не брезгуют ни палкой, ни розгой, а многих уже утопили в воде.
– Трепещите, варвары! – заорал в заключение монах, тряся вороньим носом. Наконец, убедившись, что перепугал жителей этого дикого места до полусмерти, властно распорядился: – Хозяйка, мне еще далеко идти, дай мне хлеба, мяса и меда.
Марфа с переполоху бездумно, с выкаченными шарами побелевших глаз, метнулась было к шалашу к своим припасам, но тут же опомнилась, вернулась и виновато развела руками:
– Смилуйся, но мы все отдали, что имели. А мед будет позже. Еще не время его собирать, а прошлогодний закончился.
На лице монаха появилось разочарование. От злобы дернулась щека. Монах хотел выругаться, но сдержался, лишь красные толстые губы мелко затряслись, неразборчиво изливая поток непонятных греческих слов. Он встал и, сильно втыкая в землю вишневый посох, как будто желая ее проткнуть насквозь, пошел прочь. Правда, уже отойдя на приличное расстояние, все-таки громко крикнул:
– За жадность будет вам горе!
Векша, который уже пришел в себя, опять злобно сплюнул. Проклятый грек, надо же, перепугал до полусмерти! Но ничего, схожу, Перуну принесу дары, глядишь все и обойдется.
Микула, знавший греческий язык и потому понимавший, что говорил монах, неосторожно сердито заметил:
– Надо было палкой поколотить монаха, больше было бы пользы.
Векша вонзил в него разъяренный взгляд и пообещал:
– Будешь болтать, так тебе достанется палок.
Микула хотел что-то возразить, но Векша, для того чтобы ему можно было безнаказанно перечить, был слишком рассержен, и потому юноша благоразумно метнулся за телегу и ухватился за вилы.
Ярина, старшая дочка Векши, заметив, что произошло, прыснула в уголок платка. Ей четырнадцать годков. Она пошла не в отца и не в мать: высока, стройна, как молодая березка. Несмотря на малый возраст, груди за пазухой округлились, как большие спелые яблоки. Лицо приятное, овальное. Темные тонкие брови – вразлет. Розовые губы пухлые и сочные. На спине, из-под туго обмотанной белой косынки, пробивается как ручей молочно-белая коса в руку толщиной. У отца и матери глаза круглые, карие, собачьи, у Ярины – синие, как чистое небо. Отличалась она и от других детей Векши, низких и коренастых, как перезрелые грибы сморчки, только с собачьими глазами, – все как один в отца.
Смотря на столь необыкновенную дочь, Векша, подозревая, что она от проезжего доброго молодца, не раз допытывался у жены, кто же истинный отец этой девки. Марфа клялась, что у всех ее детей один отец.
Однако женские клятвы не стоят произнесенных слов…
Микула показал Ярине кулак и пригрозил:
– Ярка, не смейся, тумаков от меня получишь.
Ярина опять прыснула, прижав к губам молочную косу и лукаво стреляя синими озерами-глазами. Она Микулу не боится, знает, что он ее любит, а потому не только сам пальцем не тронет, но и другим не позволит. Еще пару дней назад он крепко отколотил соседского мальчишку за то, что тот из озорства дернул ее за косу. Они с Микулой как брат и сестра, только настоящие, родные. И она чувствует себя рядом с ним, как за прочной стеной.
Глава 10
Поругиваясь, Векша принялся за работу, но скоро опять остановился, – на дороге за редкими деревьями появился конь. Холодное осеннее солнце, пасшее в зените холодного сапфирового неба редких ослепительно белых овец-облаков, сияло нестерпимо ярко. Страшась холодного сияния могущественного небесного короля, пушистые облачка стремительно убегали куда-то вдаль, где таилась ночная темнота, как будто в этой тьме было их спасение. Но там их поджидало огромное чудовище, которое глотало слабых белых овец. Пожирая очередное нежно-белое облачко, оно с каждой минутой темнело, наливаясь отечно-фиолетовой злобой и грозя обрушить ее всей мощью на землю, покрывающуюся осенним пестрым ковром.
Скоро, скоро придет время, и это темное чудовище – посланец зимы, – проглотит само солнце и овладеет всем небом, и обрушит на землю холодные моросящие дожди, а когда все затаится в страхе, покроет землю: и леса, и поля, и редкие дома, белым саваном; а реки, весело струившиеся в зеленых берегах, скует толстой ледяной броней. И так пройдет много времени. Но придет время, и небесные воины прорубят окна в черной силе, а затем и испарят ее, и снова будет тепло светить солнце. И исчезнет белый саван, и начнется на земле возрождение. И так на земле заведено испокон веку – жизнь и смерть идут рядом, и жизнь побеждает. Но будет ли так всегда? Это человек не может знать, ибо истину знает только Бог.
Векша расправился во весь рост на телеге – под солнцем казалось, он даже поднялся над землей, как былинный Святогор, – и, опираясь одной рукой на вилы, воткнутые в снопы, сложенные на телеге, попытался рассмотреть всадника прищуренными глазами из-под согнутой козырьком черной ладони.
Он хорошо видел лошадь. Но всадник на коне был почти незаметен, так как был очень мал. И оба они, всадник и конь, были серыми от пыли, как будто их специально валяли по проезжей дороге, и оттого их было трудно рассмотреть.
Векша ощерил из бороденки желтые клыки:
– Собака, что ли, сидит на коне?
Микула, застывший рядом с Векшей, помог, разглядев молодыми глазами:
– Чай, мальчонка на коне сидит.
Векша обеспокоенно хлопнул по бедрам:
– Да неужто лошадь понесла? Чьи же это?
Заминка в работе мужчин привлекла внимание бабьего пола, и одна из многочисленных младших дочек Векши, без спроса – ей надоело потеть на поле, – метнулась, как ежик-колобок, к всаднику и вскоре вернулась назад.
– Там мальчонка совсем малой. Чужой, – задыхаясь от бега, выпалила она то, что увидела.
Векша осуждающе пошевелил жидкой бороденкой:
– Чужой, говоришь? Однако же далече его занесло. Как бы коня невзначай не запалил…
Девчонка, отдышавшись, вытерла грязным подолом сопли и добавила:
– У него на палке красная тряпка!
Векша сразу посерел, как потертое полотно. Он уронил из рук вилы, которыми только что навалил на телегу пару снопов сразу, и, заикаясь и обливаясь потом, заругался:
– Ох баба-дура, с этого и надо было начинать.
Девчонка часто замигала карими бисеринами-глазами. На грязные щеки брызнули, как летний неожиданный ливень, капли, смыли пыль, под которой обнаружилась розовая, как у спелого налитого яблока, нежная кожица. Одной рукой девчонка начала тереть глаза, другой потянулась за подолом. Но прежде она надрывно всхлипнула.