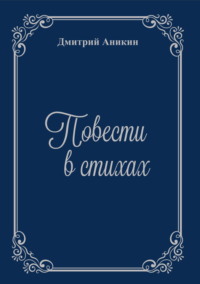полная версия
полная версияОд

ОД – невесомое вещество или сила, коей приписывают все явленья, не подходящие под свет, тепло, электричество, гальванизм и магнитность.
В. Даль. "Словарь живого великорусского языка"
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Берсентьев Сергей Александрович. Седой, полный, несколько потрепанного вида мужчина лет 50–58.
Ланская Вера Николаевна. Дама хорошо пожившая, и это сразу заметно. Одета по моде пятилетней давности; все вещи дорогие, но с историей. Несмотря на возраст, сохранила в движениях грацию и некоторую нарочитую томность. Пока это еще не смешно. Очень умна и хитра, но иногда не умеет вовремя остановиться и легко может запутать и обхитрить саму себя.
Егерь. Молодой человек лет 27, никак не старше. Что такое Егерь – фамилия или кличка, он сам, должно быть, забыл. Отчаянно некрасив и совершенно не умеет себя вести; непонятно, что в нем находят женщины, однако он популярен и был бы еще более популярен, если бы перестал стесняться своей репутации. Производит впечатление сильного и решительного человека, что при его феноменальной глупости несколько раздражает.
Арина. Девушка 25 лет, фигуриста, темноволоса, что называется, на любителя. Черты лица привлекательные, но несколько вульгарные.
Панин Павел Николаевич. Высокий, лысеющий человек с внешностью умного бухгалтера. Председатель Правления нашего тайного Общества. Лет около 45.
Прохоров Михаил Филиппович. Старинный знакомый и конфидент Берсентьева.
Прохорова Марья Афанасьевна. Его мать.
Шаповалов. Член Правления тайного Общества.
Семенов. Член Правления тайного Общества.
Гурин. Член Правления тайного Общества.
Хор.
Действие происходит в Москве примерно в наши дни, может чуть позднее.
На правой стороне сцены, на некотором возвышении, находится хор. Он практически не виден во время основного действия. Свет направляется на него во время прологов, интермедий и эпилога. Общается с хором только Берсентьев. При этом он не обязательно подходит близко к хору, но они всегда освещены единым светом (находятся в одном световом пятне, на одной, так сказать, оптической линии).
ЧАСТЬ I
ПРОЛОГ
Корифей
Время течет, истекает страны моей; из вариантов
будущего исчезают день за днем сколько бесславных
или бессильных решений, бескровных – одна остается
с разным врагом, друг на друга война и раздел по итогам.
Что на окрайнах оружье стреляет – так это привыкли.
Наша ли это земля, где ни власти законов, ни власти
даже тиранской, продажной, безумной, проклЯтой нет русской?
То, что начертано в картах, – портрет страны явно пристрастный.
Надо ль участвовать в деле дурном и бессмысленном, деле,
только способном приблизить и так роковые событья,
совесть досужую тешить? Где сверх всяких смыслов надежда
путь дуракам освещает – пожертвовать ли интеллектом?
Вблизь подходил я к дельцам и брезгливо от них отдалялся,
чувствовал стыд так и этак – за глупость и за безразличье
к Родине. Тайные общества мне всё смешными казались.
А посмеялась сполна надо мною судьба моя, злобно и нагло.
Час мой пришел в эту муть окунуться – встрепать себе нервы
и понимать легкомысленным образом судьбы России.
Голову в деле сложить поделом было б, только на шее
крепко сидит. Мне другие возможности смерти понятней…
На сцену выходит измученный бессонницей Берсентьев. Он держится за сердце. Скорее притворяется, чем действительно что-то серьезное.
Берсентьев
Так можно помереть: давленье прыгает,
вибрирует пульс; капли в чашку капаю,
водою кипяченой разбавляю, пью,
но в действенность не верю – это ритуал,
бессмысленный, бессонный; я смотрю в окно
на зимний двор, заставленный машинами,
деревья бьют ветвями, машут мерзлыми –
как нищенски и жалостно, как скучно все…
Стою курю в кальсонах, в майке трепаной;
от холода познабливает, сквознячком
рассохшиеся окна плоть подбадривают,
холодный чай плескаю в кружку, черный пью.
Вся жизнь, в одной квартире проведенная,
наваливается на плечи, долгая, –
и тени бродят и разочарованно
на сына смотрят. Мне б отсюда выбраться,
мне б в переезд за тридевять земель езжать…
И что меня тут держит, что не трогаюсь…
Другие в моем возрасте смирней, седей,
воспитывают внуков, во главе стола
глаза мозолить детям помещаются
и рассуждают веско в своей тупости,
уверенности – мне не подошла бы роль…
Насколько ж лучше жизнь моя презренная,
издерганная похотью и рвением
служить стране. Под этой битой внешностью
есть сердце молодое… Остается так,
как тридцать лет назад… возможно, сорок… да…
Освещение сцены меняется, и становится виден хор.
Берсентьев (обращается к хору)
Я думал: время мое прошло,
кончена жизнь моя,
а то, что осталось, не тяжело
будет дожить, в края
вечные намереваясь в путь
двинуть по холодку, –
не тут-то было: где повернуть,
усталому ходоку
нашлись развилки. Я с их камней
только и прочитал
проклятья тем, ктО
наяву, во сне
выборы выбирал,
взвешивая, что одна беда
против другой беды,
чтоб обе взять, чтобы ни стыда,
ни жалости – врозь следы.
Хор
СТРОФА 1
Ходит-бродит по стране
мать-гражданская-война –
пока тихо, как во сне,
только ждет свой час она.
Тропы тайные ее
круги узят, всё к жилью
ближе, ближе – вой, вытье,
страх собачий узнаю.
АНТИСТРОФА 1
Я пойду, я встану в строй
в ближний, чтобы не плутать,
увлекусь твоей войной –
хуже мачехи ты, мать.
Кто за этих, кто за тех,
кто за самоё страну!
Слышь России тихий смех:
"Прокляну всех, прокляну".
Корифей
Всякий занесен в ее списки,
глазами рыскаю – вот он,
Сергей Берсентьев,
дата пока одна –
черным ли, красным шрифтом
писать тебя, друг мой ситный,
посеревший от страха пивень
с пегими волосами?
Сам-то как думаешь?
Берсентьев
Что вы такое – память моя
или дурные сны?
Месяц над домом, свой свет лия,
блеском играл блесны.
Как зачарованный – очи вверх –
стою на месте, гляжу –
и рвусь за целью, и целью смерть
вижу, к ней путь держу.
Хор
За разговорами вся прошла
жизнь и еще пройдет.
Город Москва вся белым-бела,
третюю ночь метет.
Берсентьев
Что вы такое – гибель моя
или спасенье мне?
Из хора выходит Женщина.
Женщина
Гибели нет, только ты да я
в этом глубоком сне.
Берсентьева аж подбрасывает от этого голоса.
Берсентьев
Ты как, пришедшая сюда порой смутной?
Женщина
Не бойся, я вдали, меж нами есть версты.
Берсентьев
Да что ж такое эта ночь – кругом страхи!
Женщина
Я – сон твой; иль не рад в ночи меня видеть?
Берсентьев
На этой кухне, в тесноте ее – помнишь?
Женщина
Ты потерпи – еще я облекусь плотью.
Освещение меняется, и хора снова не видно.
Берсентьев
Я, может, и засну, такими страхами
измучив душу, испытав болезную,
я упаду в небытие предутреннее.
Я встану бодр и свеж, готовый к многому…
СЦЕНА 1
Отдельный кабинет недорогого московского ресторана в стиле "а-ля рюс". В центре стоит стол, на котором в живописном беспорядке валяются кинжалы. Большая чаша с горящим пуншем освещает кабинет синеватым, дерганным светом. Вокруг стола стоят пять человек, в руках у них рюмки с водкой. Видимо, пунш, как и кинжалы, нужны исключительно для антуража. Вся эта обстановка и все разговоры кажутся Берсентьеву какой-то безвкусной пародией на масонские ритуалы, точнее, пародией на изображение этих ритуалов в плохих книгах и фильмах. Тем страшнее становится, когда обнаруживаешь, что весь этот фарс разыгрывается его участниками с полной серьезностью и самоотдачей, а ты один не можешь проникнуться торжественностью минуты.
Разговоры у них идут какие-то неестественные и книжные.
Гурин
Свобода! Предлагаю за свободу
я этот тост. Наполним наши стопки
и выпьем за свободу, к нам на Русь
ее приход скорейший…
Берсентьев
И утрату.
Не дай ей бог обосноваться здесь
надолго, пусть мелькнет неясной тенью –
и дальше в путь, полюбовались – хватит.
Здесь не Европа – лаптем щи хлебаем
мы с юшкою. И каждый раз не знаем,
чем русская нам вольность обернется.
Одно понятно: чем угодно, только
не тихою свободой европейской,
прекрасной, долгой, светлой, нам чужой,
которой нам, по правде, и не надо.
Гурин
Старо, когда одно и то же семя
в одну и ту же землю мы бросаем…
Берсентьев (перебивая)
Наш агроном, следящий равнодушно,
какие всходы порождает поле,
напоминает старого крупье,
бросающего шарик на рулетку,
следящего мелькание цветов,
азартную гематрию цифири,
не тщась определить закономерность,
не тщась придать круженью тайный смысл.
Когда итог возможно просчитать,
тут шулерство, мошенничество, сговор.
Егерь
За Русь и за свободу пьем до дна.
(В его тоне чувствуется некоторая брезгливость, конечно же не по отношению к тосту; но кто будет пить под этот тост? Какой отвратительный интеллигентский сарказм приходится выслушивать.)
Гурин
Не думай, что тебя экзаменуем,
но правила есть правила: ты должен
нам рассказать спокойно, без утайки,
что привело тебя сегодня к нам.
Что сделано тобою ради блага
страны, и чем ты будешь нам полезен,
что думаешь ты, что на самом деле
тебя волнует? Бес противоречья
в тебе настолько громок и назойлив,
что собственный твой голос заглушает, –
поговорим спокойно и всерьез.
Мы слушаем, ты должен быть правдив.
Берсентьев
Вы говорите: бес противоречья,
вам кажется: я в пику возражаю,
верчусь, как флюгер, только против ветра.
Я не таков. И бес противоречья
мой не таков. Он суше и серьезней.
Вы знаете, что по образованью
я математик; занявшИсь из хлеба
ученьем этим, после ремеслом,
я странное в нем начал находить
успокоенье, наблюдая, что
как ни трудна задача, а решенье
всегда найдется, дайте только время.
Не сможем мы, так внуки разберутся.
Как ни были б запутанны условья,
ответ определенно существует,
единственный и правильный ответ.
Рядами стройных формул укрепил
я дух мятежный, я нашел опору
для всех своих дальнейших изысканий.
Гурин
Да в чем опору? Формулы, таблицы –
какой в них прок для жадного ума,
взыскующего настоящей пищи –
познания природы и людей?
А эти цифры только дразнят ум
щекоткою своею торопливой.
Берсентьев
Хотя математические знаки
есть чистое искусство человека,
но связаны природные явленья
такими же законами. Куда
ни кинешь взгляд, все в цифрах отразилось.
Их сочетанье отражает ход
светил небесных, руд подземный пласт,
к земле не прикасаясь, исчисляет.
Теченье вод и атомов роенье
в единые смыкаются законы,
в которых – точных, вечных, непреложных, –
казалось мне, и Промысел найдет
последнее свое истолкованье
и строго каноническую форму.
И как не попытаться всё расчислить?
Егерь
И получилось?
Берсентьев
Более того.
Расчислил я границы вычислений.
Знать, слишком верток бес противоречья,
чтоб в алгебры ворота не пролезть.
Я теорему Геделя прочел,
в ней толковалось о любых системах,
из коих математика, которой
учили в школе, лишь один пример
из множества возможных построений.
Таинственное есть у них сродство:
как ни были б различны аксиомы
(эвклидовы, иль новый Лобачевский
хитро переиначил, смысл отняв),
изъяны одинаковы, смертельны:
когда в системе нет противоречий,
то возникают, разум леденя,
непостижимые уму химеры –
высказыванья, мысли, положенья,
другие построения, к которым
понятье лжи равно неприменимо
с понятьем правды. Ангелам подобны
из сонма тех, кто меж добром и злом.
(Задумчиво выпивает рюмку водки.)
Но есть и выход: только допусти
противоречье, хоть одну возможность
кому-нибудь быть правым и неправым
(тот правду говорит, в которой ложь
не в самой сердцевине угнездилась,
но тленьем тронула по ободку,
и следы тленья углубляют правду
и плоскости ее дают объем;
другой заврался так, границ не зная,
что, не заметя, перешел на правду,
ее хитрейшим вымыслом считая);
лишь допусти – чудовища исчезнут,
о каждой вещи сможем мы судить:
вот это ложь, а тут прямая правда,
а тут и ложь и правда воедино,
достойные двойного приговора,
свежи и неслиянны пребывают.
Гурин
Не знаю ваших формул; может, верно,
а может, нет о них вы трактовали –
досуга не имею разбирать;
вовне математических конструкций
в них смысла нет – так пусть о них толкуют
ученые, а нам резону нет
с чужого пира маяться похмельем.
Где чисел нет, там формулы бессильны.
Берсентьев
И не надейся. Суть везде одна,
обща структура, ничего не прочно,
когда не врешь. Бери и то и это,
обеими руками, все дается
во благо – ложь и правда. Привыкай
к протеевой природе мирозданья.
Так я здесь для того, чтоб вы могли
судить страну, и время, и народ…
ИНТЕРМЕДИЯ
Хор
Вот он – шутки, издевки
нижет, все врет, он врет,
не без шика, сноровки
разговоры свои ведет,
и ничего не свято
проходимцу ему,
смотрит подслеповато
в сумятицу, кутерьму
заради него. Прокатят
друга на вороных;
тут честных и глупых хватит,
здесь не надо таких.
Берсентьев резко обрывает хор.
СЦЕНА 1 (продолжение)
Егерь
Мне ваши надоели разговоры,
дурное шутовство, нелепый тон,
и, не было б таких рекомендаций
от многих уважаемых людей,
иначе завершил бы нашу встречу.
Берсентьев (вздыхая)
Иначе не получится, дружище.
Егерь
Я против воли должен вас спросить:
желаете вы в Общество вступить?
Берсентьев кивает.
Вы приняты, и, хоть вы отказались
от Ритуала, предлагаю вам
осмыслить то великое деянье,
к которому вы призваны. Прощайте.
Берсентьев кланяется и выходит из комнаты, на его место заступает молодой человек в какой-то нелепой одежде. Напялено на него что-то вроде белой хламиды, сшитой из простынь. Берсентьев смотрит на входящего и смеется чуть не в голос. Этот, видимо, от Ритуала не отказался. Все нормально: это ведь карнавал с его обязательным, контролируемым безумьем.
Берсентьев (резко обрывая смех)
И эти вот – надежда для страны
последняя, за ними пусто. Как же
ты дожилась, Россия, до такого?
Исчерпаны судьбы твои. Ничто
не связывает с жизнью, время вышло;
они еще поборются с тобою
и за тебя. Они одни живые
средь общей мертвечины…
И сам хорош: кривлялся перед ними,
их забавлял отменным шутовством,
чуть-чуть не стал отплясывать,
что плел! Про Геделя! Почти что трезвый! Ладно,
не в счет перед такими униженья…
ИНТЕРМЕДИЯ
Ритуал Посвящения, от которого Берсентьев отказался.
Хор
СТРОФА 1
Сдернут повязку –
яркий увидишь свет,
глаз не мигает,
в нем никаких слез нет.
АНТИСТРОФА 1
Тайное слово
сказано – за тобой
дело – успеешь
сделать в ночи земной.
СТРОФА 2
Смерти возлюбишь
пропасть, когда сойдешь
к ней, не жалея
теплую жизни ложь.
Прямо и свято
дело теперь твое;
с жизнию бывшей
острое лезвиё
связь пресекает;
на холоде, на свету
встань перед нами,
мира познав тщету.
Корифей
Теперь ты подчинен другим законам.
Вынут из бывшего круговорота жизни.
Сам плывешь или иными течениями движешься.
Старые связи с людьми разорваны, новые – прочны и святы.
Родина приняла твою жертву – ты не принадлежишь себе.
Хор
АНТИСТРОФА 2
Мы не из камня
строим – куда прочней
плоть человечья,
дело имеем с ней.
Наш до скончанья
века и дольше – на! –
страх оставляя,
чашу испей до дна.
Дело свободы,
ставши твоей судьбой,
преображает
всю твою жизнь собой.
Произнесение текста сопровождается разного рода аффектацией и даже плясками, производимыми участниками в той мере, в какой они правильно понимают масонскую или около того символику.
СЦЕНА 2
Небольшой кабинет, производящий впечатление несколько безвкусной, старорежимной основательности. На стене висит исполненный в классической манере масляной живописи портрет некоего пожилого господина в дорогом коричневом костюме и с важным выражением породистого, брыластого лица. Это – основатель нашего тайного Общества Петр Луцкий. В кабинете трое: уже знакомый нам Гурин, который в непривычной обстановке нисколько не потерял в своей развязности, и два пожилых человека – Семенов и Шаповалов.
Семенов
Для расширенья нашего влиянья
необходима прочная основа:
не болтовня, но акции, счета,
недвижимость, ликвидные активы –
все это инструменты, без которых
не делают политику.
Гурин
Но Луцкий…
Шаповалов
Покойный Луцкий был идеалист,
такие на этапе становленья
необходимы для любого дела,
куда не лезут с трезвой головой.
Священное безумье привлекает
сторонников и делает свежей
замшелые, потрепанные догмы.
Но все это неясное томленье
должно перебродить и отстояться;
им размягченные, должны ороговеть
душа и мысль.
Семенов
Всему свой срок – колеблемое время
разбрасывает камни, собирает –
и горе тем, кто, сроки перепутав,
поспорит с ним, его чередованье
своей судьбой решит переиначить.
Ход времени сомнет, убьет, раздавит,
и мокренько останется. Сменились
и наши времена, да только Луцкий
не смог понять, и это тяготило
и без того больного старика,
но он упрям был, злобен, не смирился.
Шаповалов (оглядываясь по сторонам)
Я говорил с ним за три дня до смерти.
Не знаю, почему он конфидентом
избрал меня. Наверно, август месяц
всех разогнал по рубежам морским,
а я в Москве тем летом оставался.
Он позвонил мне, приказал явиться,
я поспешил и через два часа
был у него, кляня свою поспешность.
Он знал, что умирает, и спешил
последние отдать распоряженья,
наследника назначить.
Гурин
Что за бред…
Семенов
Он Панина назвал, мы согласились.
Шаповалов усмехается.
Три года после смерти Старика
все было тихо и спокойно – вдруг
ты воскрешаешь старые интриги.
К чему все это? Что так изменилось?
Гурин (задумчиво)
Когда бы раньше, в этом был бы смысл,
теперь же слишком поздно…
Шаповалов
Не уверен.
Срок давности ничто в таких делах.
Мы слишком близко знали Старика,
и нрав его, угрюмый и тяжелый,
нам не в новинку, мы его словам
не верили, им слишком зная цену.
Его нам завещанье не указ,
но есть другие, для которых Луцкий
непогрешим, почти что свят – мы сами
причислили его.
Семенов
Он был удобен.
Для каждой веры надобны святые,
покойные радетели за правду.
Шаповалов
Не вовремя созревшие плоды
своих трудов сегодня пожинаем.
Гурин
Постой, постой, ты думаешь, пора
нам Панину условия поставить
иль заменить его тем, кто кругом
обязан будет нам? Ну дело, дело.
Рискованно – но я готов рискнуть,
а наши крайне левые – ну, Егерь
с клевретами, – они всегда готовы
затеять смуту, через них удобней
нам действовать, интриговать, разить.
Повисает неловкая пауза.
Семенов
Обдумать надо. Нечего спешить:
и так прошло три года; разойдемся
и, трезво перспективы оценив,
условимся, что можно предпринять
для нашей общей пользы.
Гурин
Поскорей бы.
Я вот еще что думаю: не струсим,
так можно повернуть все по-другому…
Что Луцкий говорил, то знают двое:
один – в могиле, ты ж, Илья Иваныч,
ты назови меня – тебе поверят,
за мной не заржавеет, назови…
Подумайте.
(Уходит.)
Шаповалов
Каков наглец!
Семенов
Обычный честолюбец,
со временем научится хитрить –
пока он интригует напоказ
и нам его потуги не опасны.
Шаповалов
Нам болтовня опасна. Этот олух
по всем углам пойдет теперь трепаться,
искать себе сторонников таких же.
Семенов
Ты объясни, к чему все эти притчи,
что правда в них, что ложь.
Шаповалов
Зачем мне лгать,
я правду рассказал про Старика.
Я думаю, он Панина назвал
лишь для отвода глаз, в виду имея
его в момент последний заменить.
Правленье успокоится, не будет
интриговать, в приспешники себе
не поведет поспешную вербовку.
Пусть будет Панин, он устроит всех.
Ведь мы с тобой, дружище, и другие,
что Общество когда-то затевали, –
да разве мы смогли б принять другую
кандидатуру – полоумный выбор?
Семенов
Чего ждал Луцкий?
Шаповалов
Общего собранья:
там голос наш не слышен, говорит
один лишь Луцкий, слушают другие.
Но времени Старик не рассчитал,
болезнь быстрее планов оказалась,
пришлось спешить и доверяться мне.
А я решил молчать – и все б молчал,
когда б не обстоятельства такие.
Ланскую помнишь?
Семенов
Как ее забыть.
Шаповалов
Она вернулась.
Семенов
Я не знал об этом.
Шаповалов
Мы все давно не слышали о ней;
казалось, и она про нас забыла,
в Париж уехав, бросив суету
московскую сует парижских ради.
Семенов
Зачем вернулась?
Шаповалов
Разное толкуют.
Муж Веры Николавны застрелился,
тут темная история… Не знаю,
сам на себя он руки наложил,
иль кто-то делу грешному помог,
но, кажется, у следствия возникли
не то чтоб подозренья… ряд вопросов –
придирчивых, бестактных, неуместных.
Чтоб их не слушать, Вера предпочла
из Франции убраться восвояси.
Семенов
Ты с ней встречался после возвращенья?
Шаповалов
Пришла ко мне, с порога заявила,
что знает все, что Луцкий ей писал,
мои-де понимает опасенья,
не осуждает долгое молчанье,
а нынче наше время подошло,
я не один и, действуя совместно,
нам ничего не стоит обернуть
на пользу нам и промедленье наше,
и нынешнюю резвую поспешность.
Мол, всё за нас: Общественное мненье,
и люди, и судьба, и даже Панин,
бездействием своим расхолодивший
сторонников, – и кто за ним пойдет
из тех, кого нам надо опасаться?
Семенов
Она тебя пыталась вербовать?
Шаповалов
Едва ли ей казался вероятен
такой итог – скорее, проверяла
намеренья мои, понять давала,
что нам во всех дальнейших наших планах,
какие бы ни были, без нее
не обойтись, она на всё готова
и нас в покое просто не оставит.