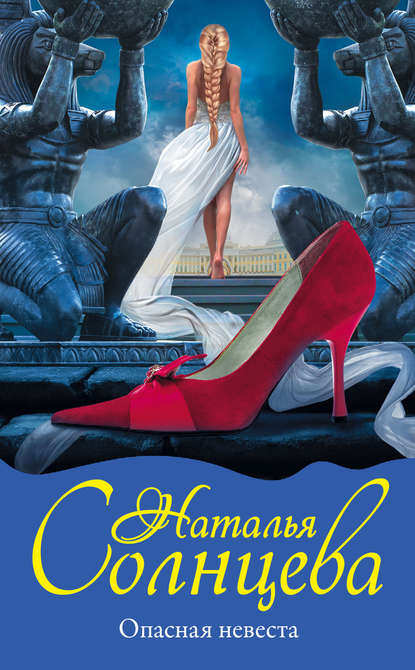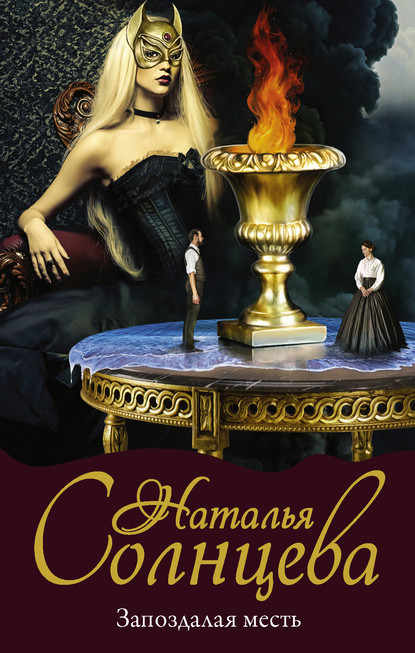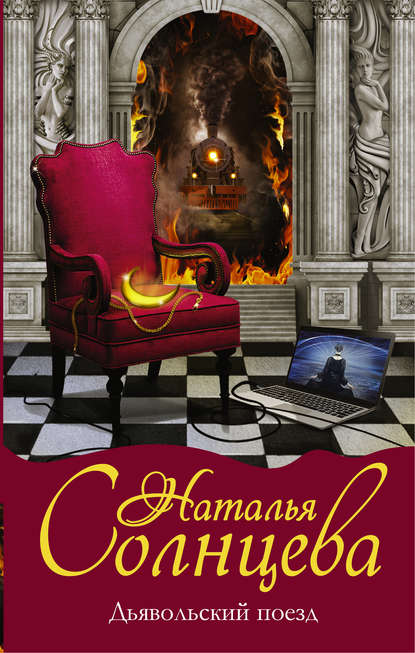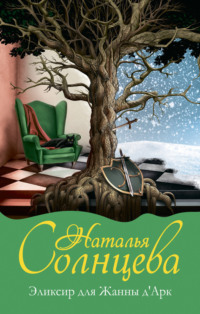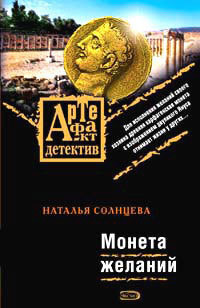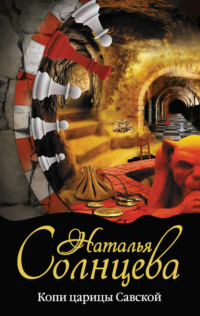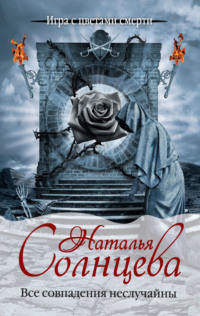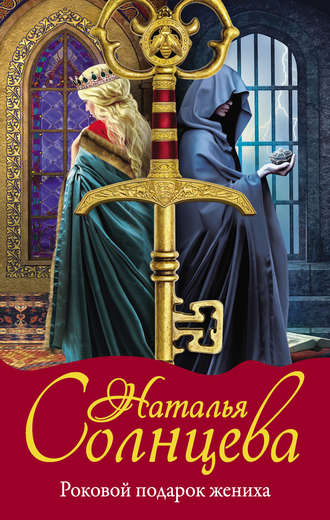
Полная версия
Роковой подарок жениха
Прошли три долгих года. Царедворцы перешептывались: «Рано вянет девичья красота, стареет царевна… Засиделась! Кто ее теперь возьмет за себя?»
Всего-то двадцатый годок пошел Ксении, она вызрела в царских покоях, будто драгоценный плод, достигла полного расцвета. А ее уж называли старой девой…
Батюшка ее между тем неустанно хлопотал, и хлопоты его не остались втуне. Датский король Христиан согласился отпустить своего брата в далекую Московию. Герцог Иоанн должен был навсегда поселиться в уделе, назначенном ему тестем. Корабль принца благополучно пересек Балтийское море, и тот сошел на берег в сопровождении многочисленной свиты. Его путь до Москвы был обставлен с подобающей пышностью: на каждой остановке датчан угощали медом и обильными яствами, при въезде в города палили пушки, и ратные люди выстраивались в ряд, дабы отдать честь высокому гостю. Кортеж делал не более тридцать верст в день, герцог развлекался охотой, любовался просторами незнакомой земли. Перед ним расстилалась бескрайняя загадочная Россия, где ему предстояла встреча с царственной невестой…
Он проехал Новгород, Торжок, Старицу. Приставленные к чужестранцу боярин Салтыков и дьяк Власьев рассказывали о житье-бытье и обычаях московитов. Царь прислал в подарок будущему зятю расписной деревянный возок с дорогой обивкой, породистых лошадей для упряжки и одежду, расшитую золотом и самоцветными каменьями.
Москва встретила жениха Ксении оглушительным колокольным звоном и толпами любопытных. В Китай-городе для него заранее приготовили лучший дом, устлали коврами, заставили богатой утварью. Велено было обеды принцу и его дружине ежедневно подавать из царской кухни «на тридцати золотых блюдах и множество сосудов с вином и медом».
Царь Борис и царевич Федор, брат невесты, на пиру обнимали датчанина как родного, усадили возле себя, потчевали разносолами: и дичью, и пирогами, и прочими яствами. Бракосочетание решили отложить до зимы. Царская семья собиралась отправиться на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, как полагалось перед важным событием.
Ксения, которой нельзя было появляться на пиру, поднялась в верхний коридор трапезной палаты и оттуда незаметно наблюдала за женихом. По русскому обычаю невеста до свадьбы не могла видеть суженого лицом к лицу. Иноземец сразу ей приглянулся. Молодой, красивый, статный, с горделивой осанкой, одетый в европейское платье, герцог Иоанн выгодно отличался от бородатых бояр, которые неопрятно ели и слишком много пили. Было в нем еще что-то, запавшее в душу царевны с первого взгляда… Кровь ее взыграла, быстрее побежала по жилам, сердце затрепетало. Так вот, каков он, избранник, который поведет ее к венцу! Вот для кого берегла она себя…
Томительное и ужасное предчувствие сжало ей грудь, она начала задыхаться. Королевич, странным образом ощутивший ее присутствие, поднял глаза… Ксения отшатнулась, отступила вглубь коридора, сжала губы, чтобы сдержать рвущийся из горла крик. Раненой птицей упала на руки матери. Царица Марья тоже была тут, придирчиво рассматривала зятя, искала изъяны. Хорош был датчанин, ничего не скажешь…
– Что с тобой? – испуганно склонилась она над Ксенией. – Сомлела, голубка кроткая… Аль жених не по нраву?
* * *Москва. Наше время
Дом на Тихвинской улице, где проживала Ульяна Бояринова, был пятиэтажным, без лифта, построенным, вероятно, полвека назад. Во дворе росли липы и старые кусты сирени. Сирень отцвела, листья лип казались влажными, клейкими. Несколько удобных деревянных лавочек помещались в тени деревьев, на одной дремала старушка в панаме.
Астра присела рядом, достала из сумки фотоаппарат и принялась щелкать. Соседка встрепенулась, открыла глаза и с интересом покосилась на нее из-под полей линялой панамы.
– Ты кто будешь, дочка?
– Корреспондент газеты «Заповедные уголки Москвы», – без запинки выпалила Астра. – Готовлю фотовыставку. Ищу дома и дворы, связанные с историей нашего города.
Старушка с сожалением вздохнула.
– У нас нет ничего примечательного… Никто из знаменитых людей в нашем доме не жил. Никакой исторической ценности он не представляет. Типовая послевоенная застройка. А вот ремонт не мешало бы сделать. Гляди, стены облупились, и в подъездах безобразие. Ты все сфотографируй! Вдруг, у наших начальников совесть проснется…
Астра послушно выполнила ее просьбу. В подъездах, которые показывала ей пожилая дама, на стенах местами обсыпалась штукатурка, плитка на площадках потрескалась, окна были грязными. Щелчки фотоаппарата отзывались гулким эхом в лестничных пролетах.
– Ты людей тоже снимаешь или только дома?
– Могу и людей, – кивнула Астра.
Старушка поправила выбившиеся седые волосы и приосанилась.
– А меня можешь снять для выставки? Я тут, почитай, лет сорок живу! Я ветеран войны, у меня и награды есть. Хочешь, покажу?
Она пригласила Астру в просторную квартиру на первом этаже, полную книг и воспоминаний. Повсюду – полки с тиснеными корешками разноцветных томов, стопки толстых журналов, портреты в рамках. Молодой военный в летном шлеме стоит у крыла самолета, санитарка с огромной медицинской сумкой через плечо застенчиво улыбается в объектив…
– Библиотеку мой покойный муж собирал, – сообщила старушка. – Очень он книжки любил. Рука не поднимается продать. Вот когда умру, пусть дети решают, как с ними быть.
– Это вы? – Астра показала на черно-белое фото санитарки.
– Я… Летом сорок третьего года, Курская дуга. Девчонка еще совсем… Ты садись, дочка, за стол… чай пить будем.
К чаю, Антонина Федоровна, – так звали гостеприимную хозяйку – подала пышки и малиновое варенье.
– Прошлогоднее, – объяснила она. – Ягоды не покупные, с собственной дачи. Ты ешь, ешь, не брезгуй…
– Как же вы на даче управляетесь?
– С трудом. Слава богу, дети помогают…
Они разговорились, словно две давние подруги, – разница в возрасте стерлась. Старушка рассказывала о войне, Астра слушала, угощалась вареньем и гадала, как бы плавно перейти к вопросу об Ульяне Бояриновой.
– В вашем доме, кажется, живет одна журналистка. Я ее статью читала и снимки видела. Она любит фотографировать уголки старой Москвы.
– Кто ж такая-то?
Астра наморщила лоб, делая вид, что пытается припомнить.
– Бояринова… Ульяна… если не ошибаюсь…
– Ах, Улька! – просияла старушка. – Она разве журналистка? Тунеядка! На работу не ходит, болтается по улицам со своим фотоаппаратом… И на что только живет? Пока мать была, небось, ее пенсию проедала. Та в гроб-то и легла с горя. Ульке все лучшее – и самый сладкий кусочек, и обновку, и то, и се… А доченька по кривой дорожке пошла! Не в мать уродилась, в отца. Тот ребеночка сделал Надежде и был таков. Не про него, вишь, семейную лямку тянуть. Всю жизнь Надя, бедолага, одна промучилась, дочку подняла, на ноги поставила, выучила. На копейки перебивалась, во всем себе отказывала, лишь бы Уленьке было хорошо. Она ведь ее поздно родила, уже в возрасте.
Антонина Федоровна насупилась, как будто непутевая Ульяна была ее дочерью, а не покойной соседки.
– Все потому, что больно баловала Надежда свою девку, – вынесла она суровый вердикт. – Потакала всем ее прихотям. У той еще молоко на губах не обсохло, а она уж с парнями обнимается – прямо во дворе! Усядутся на скамеечку и воркуют, что твои голубки… Срам! Я говорила Надежде: гляди, как бы она тебе в подоле не принесла. Хоть в этом повезло ей, горемычной. Улька в учебу ударилась, целыми днями то в университете пропадала, то к занятиям готовилась, а парня своего прогнала, одна осталась. Потом-то закончила, диплом получила, а счастье свое поморгала. До сих пор безмужняя ходит. Надежда сильно переживала за нее – позовет, бывало, меня на чай, и давай душу изливать. Несчастливые, говорит, мы, Бояриновы: что у меня судьба не сложилась, что у дочери. Ей уж скоро тридцать, а жениха все нет и нет. И с работой не клеится… Очень она у меня своенравная выросла, гордая. Таких не любят.
Астра сделала несколько фотографий словоохотливой старушки. Та достала из лаковой шкатулки ордена и медали, стала показывать, сопровождая каждую награду драматической историей.
– Кто еще давно проживает в вашем доме? – вскользь поинтересовалась гостья. – Я бы их тоже сфотографировала.
– Нету больше никого… Подруга моя, Зинаида, скончалась три года назад, другие тоже умерли, остальные разъехались кто куда. Из старых жильцов в нашем подъезде только я, Трошкины да Ульяна. Только какие Трошкины ветераны? Им еще до пенсии далеко. Они ничего не застали, ни войны, ни разрухи послевоенной.
– Я бы с ними все-таки побеседовала.
– Сейчас не получится, – ревниво поджала губы старушка. – На работе они, а сын в школе. Ты, дочка, зря время потеряешь. Чего Трошкины расскажут-то? Как соседей залили? Как ихняя собака Сеньку со второго этажа покусала?
Она ни словом не обмолвилась о странностях в поведении Ульяны. Выходит, та не вызывала у старожилки никаких подозрений.
– Жаль, что Надежда Бояринова умерла. Она, наверное, могла бы поделиться интересными воспоминаниями! – «огорчилась» Астра.
– Да, жалко Надю… Болела она в последнее время, почти не выходила из квартиры. Похороны были скромные, едва десяток людей набралось. Несколько соседей, остальные незнакомые – бывшие друзья Надежды, видать. Ульяна плакала, аж опухла вся. Дошло до нее, что такое без матери-то остаться! До сей поры не в себе будто…
– Что значит, «не в себе»?
Антонина Федоровна долго думала, прихлебывая чай.
– Как в облаках витает, не видит никого. Если поздороваешься, ответит, а не поздороваешься… После похорон она даже внешне изменилась, – похудела, осунулась, волосы подстригла. У нее были длинные, а теперь до плеч и собранные в узел.
– У нее есть подруги?
– Улька всегда была замкнутая, себе на уме. Кажется, ей и не нужен никто. Я имею в виду, с девчонками она не водилась. Выйдет во двор гулять и бродит кругами, то в одну сторону, то в другую. Кошку подберет приблудную и шепчет ей что-то – разговаривает. В школе, правда, хорошо училась, в университет поступила. А подруг как не было, так и нет.
– А мужчины? Есть у нее кто-нибудь?
– Она рано начала с парнями любовь крутить, – неодобрительно покачала головой старушка. – Говорю же, сядут на лавочку и обнимаются, бесстыжие! Мало ли, чем еще занимались? Может, и переспали. А потом разошлись, как в море корабли. Видно, Надежда крепко за дочку взялась, держала ее в ежовых рукавицах, чтобы больше ни с кем ни-ни! Или та сама одумалась. Я ведь подробностей не знаю… Вдруг Ульке пришлось аборт делать? В жизни всякое бывает. Только с того времени я ее ни с кем не видала. Надежда уж и не рада была. Не хочу, говорит, чтобы дочь по моим стопам пошла. А куда денешься-то?
– Значит, Ульяна совсем одна?
– Вроде бы так. Но вот что я заметила. У нее обновки стали появляться! Откуда, спрашивается? То пальтишко новое, то сумка, то платье. У меня глаз-алмаз. Я Улькин гардероб наперечет знаю. Вещи она покупает скромные, неказистые. А тут вдруг такой шик! Нигде постоянно не работает, денег нет, а за квартиру платит исправно, одевается хорошо, на продуктах не экономит – набирает все, что приглянется. Мы же в одном супермаркете отовариваемся, во-о-он, за углом, у остановки. Еще она дверь поменяла – старую деревянную на бронированную.
– Многие журналисты неплохо зарабатывают, – сказала Астра.
– Это Ульяна-то журналистка? Да она дома сидит целыми днями или по городу шатается… Я как в поликлинику еду на процедуры, так и вижу из троллейбуса, – шагает она по улице, витрины разглядывает! Журналистка…
– Статьи можно писать дома. А потом отсылать в разные издания.
– Нет, – строго произнесла Антонина Федоровна. – Если она раньше и писала, то после смерти матери совсем от рук отбилась. Я думаю, уж не на панели ли промышляет девка? Все на то указывает. И обновки, и… все!
Она наклонилась и понизила голос:
– Уже несколько раз в наш двор незнакомая машина приезжает и стоит подолгу… Не иначе, кавалер Ульку поджидает. Машина темно-зеленая, блестящая, новая… уйму деньжищ стоит! Я когда из окна выгляну, когда во дворе гуляю – и вижу: опять прикатил. Пару раз Улька к нему подсаживалась, и они уезжали. Ясно, куда! В гостиницу или к нему домой…
Старушка подробно описала автомобиль господина Тарханина. Она даже номер запомнила.
– А с кем-нибудь из соседей Ульяна поддерживает отношения?
Бывшая санитарка склонила голову набок и уставилась на гостью проницательным взглядом:
– Что ты все про нее расспрашиваешь? Может, неспроста сюда явилась? Не дворы фотографировать, а про Ульку разузнавать?
Астра предусмотрела такой поворот и «вынуждена была признаться», что она действительно интересуется Ульяной Бояриновой.
– Значит, моего портрета на выставке не будет? – разочарованно протянула старушка. – И ремонта нам в подъезде не сделают?
– Почему же не сделают? Снимки я вам принесу, а вы их приложите к жалобе, которую напишете на нерадивых коммунальщиков. А в конце обязательно укажите, что вы ветеран войны и перечислите свои награды.
Антонина Федоровна оживилась. Она долго выпытывала, кому лучше адресовать жалобу – градоначальнику или самому президенту.
Чай остыл. Астра собралась уходить.
– Засиделась я у вас. Пора и честь знать. Спасибо за помощь…
– Ты, случайно, не жена этого… который на машине приезжает? – хитро прищурилась старушка.
– Я его сестра и действительно работаю корреспондентом в газете. Вот решила выяснить, с кем мой брат проводит время. Не нравится мне все это!
– Правильно! Улька хорошему мужику – не пара. Странная она какая-то, непонятная. Никогда не остановится, не поговорит по душам, не спросит, как у меня дела. А ведь я ее сызмальства знаю, сопливой девчонкой по двору бегала… После похорон матери Ульяна окончательно от всех отгородилась. Едва глаза поднимает при встрече. И все торопится, торопится, будто опаздывает куда-то…
– Можно, я еще приду? – спросила Астра. – Только вы обо мне никому не говорите. Брат узнает – рассердится, обидится. Он очень ранимый.
Старушка с видом заговорщицы кивнула:
– Я умею хранить тайны…
* * *Игорь Тарханин не испытывал недостатка в женском внимании. Ему ничего не стоило завести знакомство, закрутить любовную интрижку с какой-нибудь молодой девушкой – в ночном клубе, например, или на вечеринке, куда его наперебой приглашали друзья-приятели. Некоторые даже брались его сватать. Он был завидным женихом – свободным, привлекательной наружности и при должности. Перспективным, как теперь принято говорить.
С женой Игорь расстался без сожалений. Она прекратила попытки к примирению, когда поняла, что он непоколебим, и пустилась в поиски нового претендента на руку и сердце. Ее не обремененная мыслями ветреная головка нуждалась в надежном плече, куда ее можно было бы приклонить. Миниатюрность, белые кудряшки и пронзительный голос жены ассоциировались у Тарханина с болонкой. Даже имя Людмила она переделала на «собачий» манер, – Люси. После развода Люси сделала себе операцию по увеличению груди, так как решила, что муж бросил ее по причине недостаточно пышных форм.
Она и помыслить не могла, в чем кроется истинный повод. Далекий от сантиментов, прагматичный Тарханин не может забыть свою первую любовь! Если бы кто-то сообщил об этом Люси, на ту напал бы истерический хохот. Слово «любовь» существовало в ее лексиконе исключительно потому, что нравилось мужчинам. Они хотели любви, а Люси могла предложить им только хороший секс.
– Чем ты недоволен? – искренне недоумевала она, когда муж объявил о разводе. – Я тебе не изменяла, клянусь! Я хоть раз отказала тебе в постели?
– Ты слишком много тратишь денег, – брякнул он, только чтобы она отстала. – Ты транжира, Люси. И плохая собеседница. Я со скуки умираю, слушая твои бредни. Квартира завалена твоими тряпками, косметикой и глянцевыми журналами. Примитивизм выходит из моды, детка! Мне пора позаботиться о своем имидже. Вдруг, я решу баллотироваться в парламент?
Он внутренне заливался смехом. Жена смотрела на него, хлопая длинными накрашенными ресницами. При слове парламент она зевнула, прикрыв алые губки тонкими пальчиками.
– Ты белоручка! – добавил Игорь. – Меня тошнит от твоей ежедневной яичницы!
Он бил без промаха. Люси краснела, бледнела, снова краснела… Зато он наслаждался ее удрученным видом. Еще бы, такой жирный карась сорвался с крючка! Впору волосы на себе рвать.
Когда Люси съехала, он вздохнул с облегчением. И уже на следующий день забыл о ней. Пришлось отдать ей однокомнатную квартиру в Химках, где он держал жильцов, – за глупость надо платить.
Отделавшись от Люси, Тарханин почувствовал себя помолодевшим и полным сил. Она здорово тянула из него соки. Находиться изо дня в день рядом с чужим человеком, оказывается, утомительно – будто нести в гору ненужный груз.
Окружающие наперебой начали предлагать Тарханину знакомства с женщинами, в том числе и родители. Мама несколько раз заговаривала о «девочке из хорошей семьи».
– Я не хочу жениться! – отмахивался он. – Мне хватило Люси. Я сыт по горло семейной жизнью!
Это была правда. Он не помышлял о семье, он мечтал об Уле, о тех теплых весенних днях, когда они гуляли до темноты, забросив учебники, не думая об экзаменах. Та сирень, залитая лунным светом, которую он ломал для нее, те первые сладкие поцелуи на лавочке в ее дворе, вопреки всему запали ему в душу, отравили всю его жизнь…
Возвращаясь к Уле, он возвращался к самому себе. Он еще не знал, что не существует обратного пути.
Новая Ульяна, с которой начал встречаться Тарханин, все меньше напоминала ему девушку его юности. Впрочем, их отношения скорее походили на пробные шаги. Он пытался вызвать в ней ностальгию по прошлому, она вяло сопротивлялась. Вот и сегодня она наотрез отказалась пригласить его к себе на чашку чая.
– У меня не убрано, – отнекивалась она.
– Давай сходим в кафе, – настаивал он. – Поужинаем. Я голодный, как волк.
– А я на диете…
– Закажем что-нибудь диетическое, – неуклюже шутил Тарханин.
Он вышел из машины и загораживал ей дорогу к подъезду. Уля стояла, поглядывая по сторонам. Она избегала смотреть ему в лицо, в глаза. Одетая в легкое летнее платье, она продрогла.
– Возьми мой пиджак…
– Нет, спасибо! Я лучше пойду.
– Раньше ты не могла меня пригласить домой из-за матери. А сейчас?
– Что было, то прошло. Где ты был все эти годы, когда мы с мамой перебивались на гроши? Потом она болела, а я работала с утра до ночи, чтобы покупать лекарства и платить врачам. Потом она умерла… Уходи, Игорь, оставь меня в покое…
– Я не виноват в смерти Надежды Порфирьевны.
– Куда ты пропал после выпуска? Я ждала, что мы вместе будем поступать в университет, что ты поможешь мне готовиться…
– Ты не захотела стать моей женой. Почему?
– Мы оба были детьми, Игорь! Что тебе мешало просто любить?
Он растерянно молчал. Та Уля не имела привычки упрекать его в чем-либо. Возможно, он не давал повода. Тогда все было проще.
Темнело. Собирался дождь. В сыром воздухе пахло мятой. Этот аромат шел от Ули – в ее карманах, вероятно, полно мятных конфет. Впрочем, у нее нет карманов.
Тарханин отметил, что ее стильные босоножки и сумочка одного цвета, из мягкой кожи, – он знал, сколько стоят такие вещи. Видимо, статьи, которые она пишет, пользуются спросом и хорошо оплачиваются.
«Это она! – думал Тарханин, глядя на ее талию, обтянутую желтым шелком платья. – Напрасно я сомневался. Или не она? Неужели я схожу с ума? Не похоже… Я по-прежнему прекрасно справляюсь с работой, нормально общаюсь с людьми, решаю вопросы. Все мы – пешки в руках времени. За четырнадцать лет я сам стал другим. Меня не узнать!»
Первые капли дождя падали на асфальт, оставляя темные пятна, шумели в листьях старых лип. Порыв ветра растрепал волосы Ули.
– Мне холодно, Игорь, – сказала она. – Да и ты промокнешь… Пока!
Она повернулась и быстрой походкой направилась к подъезду.
Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла за дверью. В окне первого этажа колыхнулась занавеска, мелькнуло лицо старухи…
Тарханин, ощущая на себе пристальный взгляд, сел в машину и завел двигатель…
Глава 5
Суздаль, XVII век
Покровский женский монастырь

День за днем проходила перед старицей Ольгой вся ее жизнь. Беззаботное детство, сладостная юность, тревожное ожидание замужества…
Жарко, истово молилась царевна Ксения в Троицкой обители, просила себе любви, счастья с молодым герцогом Иоанном. Гнала прочь дурные мысли, ночные страхи. Потеряла сон… Едва сомкнет веки – разверзается перед нею бездна, куда она стремительно падает… летит, летит… и нет той бездне конца и края. Кто-то невидимый злобно хохочет, вещает скрипучим голосом: «Высоко вознеслась, голубица… больно падать будет! Не свадьба у тебя впереди, – срам и бесчестие! Беду привез на своем корабле твой суженый, обручился он не с тобой – со смертью безглазой. Плачь, царевна, пока все слезы не выплачешь! А когда выплачешь, вырвешь от горя свои черные косы, расцарапаешь нежные щеки…»
– Господи! – в ужасе шептала царская дочь. – Почто караешь? В чем моя вина?
Преданная мамка, которая всюду сопровождала Ксению, успокаивала.
– Какие у тебя грехи, дитя? Чиста ты перед Богом и телом, и помыслами.
– А гордыня? – рыдала Ксения. – Разве батюшка мой не тем же грешен?
Мамка испуганно озиралась: не колыхнется ли парчовая занавесь, не скрипнет ли дверь? Доносчиком мог оказаться кто угодно: и постельница[7], и простая прислужница.
– Тише, тише…
– Я завет нарушила, повидалась с женихом до венца, – стуча зубами от нервного озноба, призналась Ксения. – Лицо свое ему открыла. Поклялись мы друг другу в верности навеки…
Мамка затрясла рогатой кикой[8], запричитала.
– Нельзя было! – сокрушалась она. – Кто ж тебя надоумил?
– Сама… сама! Не утерпела.
Царевна прижала руки к груди, так забилось сердце при воспоминании о тайной встрече. Датский принц был изящен, воспитан в европейском духе, по-русски знал всего пять слов, но у любви – свой язык, понятный лишь двоим. По тому, как засияли его глаза, дрогнули красивые губы, Ксения догадалась, что вызвала у нареченного ответное чувство.
– Мы созданы один для другого, мамушка…
Старуха прижала ее к себе, как в детстве, гладя по густым шелковистым волосам.
– Даст Бог, сыграем свадебку! Уж я меду напьюся досыта. А ты спи, спи…
Она запела колыбельную, коей убаюкивала маленькую Ксению, и та сладко вздохнула, закрыла темные очи. Ишь, брови-то собольи, ресницы в полщеки, губы алые, будто спелые вишни. Как же красу такую не полюбить, яблочком наливным не соблазниться? Сказывают, иноземки сухи, желты и корявы, волос не моют, в мыльню не ходят…
Мамка уложила царевну, подлила маслица в лампаду, опустилась на колени и давай бить поклоны, молить Богородицу о заступничестве, просить счастия для своей любимицы.
В полночь Ксения проснулась, вскочила, потребовала зажечь свечи. Во сне ей привиделся диавол в царском обличье. Кто то был, она не узнала. Московский люд и бояре поклонялись сему диаволу, а царевну отдали ему на растерзание. «Ежели жить хочешь, покорись!» – шептал скрипучий голос. И стоял в палатах запах серы, дыма и крови…
– Они все м-мервтые… – бормотала Ксения. – Мертвые…
– Кто? – наклонилась над нею мамка.
– Батюшка… матушка… и б-братец…
Забегали прислужницы, принесли святой воды, кинулись окроплять все углы, и кровать, и перину с подушками, и саму прелестную боярышню.
– Никак порчу кто навел, – бубнила мамка, вздрагивая от каждого шороха. – Не уберегли голубицу! Ох, горе нам! Горе!
Наутро царь Борис приказал собираться в обратный путь, в Москву. Ехали медленно. То и дело пускался дождь. Ветер срывал с бояр и стрельцов шапки. Деревья стояли наполовину голые, унылые. Дорожные колеи развезло. Из-под колес летела жидкая грязь, возки приходилось вытаскивать из колдобин вручную. Хрипло кричали возничие, громко ржали лошади. Рыжие поля вокруг деревень мокли под дождем, крестьяне боязливо смотрели с обочин на царский поезд…
Ксения всю дорогу плакала, изнемогая от тоски. Царица Марья страдала головной болью, ее растрясло, она едва дышала. Бориса снедало беспокойство. Вся семья словно предчувствовала недоброе. К вечеру из Москвы прискакал гонец, доложил о внезапной болезни герцога.
– Зело опасен недуг? – всполошился Борис.