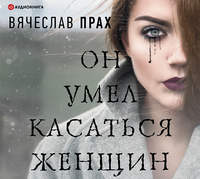Полная версия
Отель
– Я только укушу и положу обратно на место, а когда ты закончишь, то доем его.
– Замечательно. Я скоро закончу.
– Кстати, о простыне. Занеси, пожалуйста, наше постельное белье дяде Полю и передай ему мой привет.
– Хорошо, – сказала послушная француженка, жующая яблоко. Она сняла пододеяльник, собрала наволочки и выбежала из комнаты.
Последние штрихи грифелем старого и, кажется даже, бессмертного карандаша. Бессмертие карандаша – это создание прекрасного на протяжении целого года медленно тянущейся жизни мастера. Мой карандаш почетно скончался, создав свой последний шедевр.
– Все. Закончил! – удовлетворенно выдохнул я.
Тем временем ко мне пожаловал гость.
– Доброе утро, Андреа, – сказал толстый высокий мужчина, именуемый хозяином этого прекрасного гостиничного номера, в котором я живу и творю вместе со своей дочерью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.