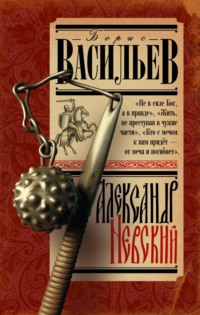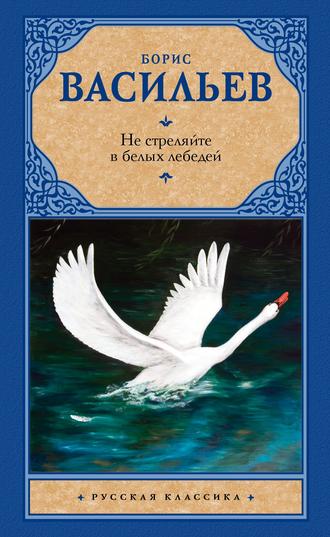
Полная версия
Не стреляйте в белых лебедей (сборник)
– Сомневаюсь, – сказал начальник.
– А я не могу человека загодя плохим считать, – с непривычной горячностью сказал Иван.
– Значит, хочешь брать?
– Беру. Опыт у него есть?
– Достаточный, – сказал начальник. – Он вон и по Енисею навигацию проплавать успел… Ладно, Трофимыч, гуляй себе на катер, прибирайся, а парня я пришлю. Только помни: я тебя по дружбе предупредил, и чтобы потом…
– Ничего потом не будет, – сказал Иван и, пожав сухую, всегда горячую руку начальника, вышел из отдела кадров.
Парень сидел на старом месте, только возле ног прибавилось окурков. Он встретил Ивана спокойным взглядом серых холодных глаз и чуть заметно усмехнулся.
– Катер возле затопленной баржи причален, – сказал ему Иван. – Как оформишься, приходи не мешкая. Катер номер семнадцать, запомни.
Парень вскочил, хотел что-то сказать, но из окна крикнул начальник:
– Прасолов!.. Ну-ка, зайди!..
Прасолов подхватил вещи, шагнул к крыльцу. В дверях остановился.
– Спасибо, капитан! С меня – пол-литра!..
С яблоками Еленка обернулась быстро: дежурила знакомая девчонка и без разговоров взяла мешочек. Впрочем, Никифоров считался тяжелым, лежал в отдельной палате, и доктор, вопреки обыкновению, пустил к нему жену еще до завтрака. Все эти новости сестра выпалила Еленке и ушла.
От больницы Еленка спустилась к рынку, купила мяса и, завернув его в припасенную газету, пошла на катер.
Поставив вариться мясо, Еленка переоделась и принялась за уборку. Открыв люк в кубрике, выколотила диваны, вытащила наверх одеяла и подушки. Потом достала швабру и, надев на босу ногу галоши, принялась с ожесточением скрести маленькое суденышко.
– Чего расстаралась, соседка? – спросила с ближайшего катера пожилая женщина-матрос. – До Ноябрьских далеко…
– Да я так. – Еленка почему-то смутилась и отвечала, не поднимая лица. – Все равно пока без работы стоим.
– А Никифоров как?
– Не видала я его, родных только пускают. Девчонка там знакомая работает, говорит, плохо, мол.
Вопрос любопытной соседки – нет, не о Никифорове, другой – застал Еленку врасплох. Еще вчера она и не думала об уборке, но сегодня на борт должен был вступить кто-то посторонний, и ей хотелось по-хозяйски блеснуть чистотой, порядком и сытным обедом.
Где-то в глубине души она хотела, чтобы неизвестный оказался молодым и веселым, но думала об этом робко, словно тайком от самой себя, потому что и для нее и для Ивана куда было бы проще, если бы он был местным, имел на берегу дом, семью и все связанные с этим интересы. Такой человек не мог нарушить установившийся на катере порядок, и жизнь не требовала бы ни перемен, ни ухищрений. Все текло бы своим чередом – даже ее редкие ночные свидания с Иваном…
Размышляя об этом, она выдраила до блеска старый катерок и спустилась вниз, где на крохотной печурке кипел обед. Она успела только приподнять крышку, как на палубе гулко грохнуло, катерок качнуло и незнакомый голос громко спросил:
– Разрешите войти?
Она поспешно накрыла кастрюлю, вытерла руки и, старательно оправив платье, с опозданием крикнула:
– А кто там?
И полезла наверх, заранее смущаясь, потому что голос был насмешливым и молодым. Еще из рубки – сквозь стекло – она увидела рослого парня с чемоданом и вещмешком.
– Здравствуйте, – очень тихо сказала она.
– Привет, хозяйка. – Парень в упор разглядывал ее серыми глазами. – Будем знакомы: Прасолов Сергей Павлович.
– Лапушкина, – сказала она и, стесняясь, подала руку ковшиком, на мгновение. Потом спросила: – К нам, значит?
– К вам. – Он поймал ее взгляд, улыбнулся вдруг, как выстрелил: – Как вахта идет, товарищ Лапушкина?
От прямого, вызывающего взгляда, от вопроса, сбивающего на игривый, неравноправный тон, Еленка совсем сникла и, пробормотав что-то, торопливо спустилась в кубрик. Здесь она опять принялась за обед, все время с непонятной тревогой прислушиваясь к шагам над головой. Зная, каким звоном отзывается каждый шов палубы, она безошибочно определяла, что он делает там, наверху: тонко взвизгнула плохо смазанная петля носового люка, скрипнула дверь рубки, грохнул пол машинного отделения.
Парень грохотал по-хозяйски, не стесняясь, не спрашивая, что где лежит. Тяжело взревел двигатель, катерок мелко затрясся, но Сергей не выключал ход, а придирчиво гонял старенький мотор на всех оборотах, выслушивая каждый цилиндр. Он больше не беспокоил ее и не выходил из машинного отделения. Заглушив движок, звякал ключами, изредка что-то насвистывая. Даже когда пришел Иван, не вылез навстречу, а гулко крикнул снизу:
– Капитан, спуститесь-ка!..
Иван ушел к нему, и они долго не появлялись. Еленка сготовила обед, накрыла на стол, а их все не было, только голоса неразборчиво гукали в звонком трюме да дважды взревел запущенный двигатель.
Они спустились вместе – умытые, с розовыми, натертыми полотенцем лицами.
– Ну, я же сразу сказал, что в пятом цилиндре палец люфтует! – почему-то очень радостно говорил Сергей. – И форсуночки проверить не грех: подача паршиво отрегулирована, для дяди…
– Обедать, – сказала она, то снимая, то снова накрывая кастрюлю крышкой. – Стынет.
– С мясом! – улыбнулся Иван. – Ну, Еленка, расстаралась ты сегодня.
– Что же я! – крикнул Сергей и кинулся на палубу.
Он тут же вернулся с мешком и чемоданом.
– Для первого знакомства. – И со стуком поставил на стол бутылку водки.
– Это ты, парень, зря, – сказал Иван. – У нас закон: только по праздникам.
– Я, капитан, законы соблюдаю. – Сергей зубами надорвал пробку. – Ты что, матрос, два стакана ставишь?
– Выпей с нами, Еленка, – сказал Иван. – За знакомство.
Они выпили, и Сергей с Иваном завели длинный разговор о двигателе, который следовало бы перебрать, о работе, которую невозможно спланировать, о простоях и премиальных, переработках и выходных, и Еленка вскоре совсем освоилась, потому что новый помощник не обращал на нее никакого внимания.
– Вот ты говоришь: смесь богатая, – сказал слегка захмелевший Иван. – Ладно, богатая. Так. А есть резон регулировать? Есть резон экономить? Нету такого резона, потому что тут не об экономии думать надо, а наоборот: куда лишнее горючее деть.
– Много? – спросил Сергей.
– Две тонны вот тут. – Иван похлопал себя по шее. – Движок старый, масло жрет в три горла, а кто с этим считается? Нормы единые – по отношению к топливу. Вот и приходится из-за масла нормы завышать: пишешь «сто моточасов», а на самом-то деле хорошо, если полсмены отработал.
– Да и самому, наверно, не без выгоды, – усмехнулся Сергей. – Ты, капитан, не хмурься: нам теперь в одном кубрике щи хлебать.
– Катер наш на побегушках, и платят нам повременно, – сказал Иван, закуривая. – Просто глупость получается, вот какое дело. И не хотел бы, а сам собственной рукой каждый месяц моточасы приписываю, иначе без масла останусь.
– А если назад, на нефтянку сдать? Мол, излишки?
– За излишки, парень, хлестче бьют, чем за перерасход.
– Да, капитан, тут повертишься! – засмеялся Сергей. – Ладно, что-нибудь сообразим: докажу, что не зря ты меня на крыльце подобрал… – Он прошелся, хлопнул по железному ящику в углу. – А что же музыка не работает?
– Перегорела музыка, – сказал Иван. – Надо бы радиста.
– Считай, что нашел. – Сергей подсел к приемнику. – Я на флоте кем только не был… – Он свинтил барашки, снял крышку: обнаружилась затянутая паутиной пустота. – А где же передатчик? Или не выдавали?
– Выдавали, – улыбнулся Иван. – В начале навигации все выдают – и приемник и передатчик. Приемник мы берем: известия послушать или музыку, а передатчик снимаем и – обратно на склад. Мороки с ним уйма, ответственность, а радистов на весь затон – два человека.
– Темные вы люди! – не то шутя, не то серьезно сказал Сергей. – Подай-ка мне, матрос, отвертку да батарейку с наушниками. В чемодане они.
Еленка не сразу поняла, что он обращается к ней: так запросто, походя прозвучала эта просьба.
– Подай, что просят, – сказал Иван. – Значит, разбираешься? Золотые, видать, руки.
– А это поглядим – золотые они или оловянные.
Работать он умел: не суетился, не ошибался в инструменте, не тратил силу там, где нужна была сноровка. Простучав с помощью батарейки цепи, нашел сгоревшее сопротивление, опять послал Еленку за какой-то коробкой, разыскал в этой коробке нужную деталь и кое-как, временно, поставил ее на место.
– На соплях, – улыбнувшись, пояснил он. – Раздобудь паяльник, матрос, сделаю намертво.
Иван недоверчиво хмыкнул, но Сергей тут же поймал «Маяк». В динамике что-то потрескивало, но слушать было можно.
– Вот и вся беда, – сказал Сергей, навешивая щитки на работающий приемник.
Они долго слушали музыку. Сергей попытался было подсвистывать, но поймал недовольный взгляд Ивана, замолчал и слушал дальше уже серьезно. И Еленке понравилось, что он поглядывает на Ивана с уважением, не выпячивает своих привычек, а подлаживает их под жизнь того кубрика, в котором ему теперь и спать, и щи хлебать…
Как только концерт кончился, Иван поднялся, щелкнул выключателем.
– Теперь полчаса объяснять будут, почему музыка хороша. Подай-ка костылек, Еленка.
Еленка подала стоявшую у трапа палку, спросила:
– Далеко ли собрались?
– Стариков надо проведать. – Иван глянул на Сергея. – Айда с нами, а?
Пошли втроем. Иван с помощником шли впереди, говорили о работе, о рейсах, о глубине судового хода и мелях, обозначенных по всему плесу сухими жердями.
Разговор был серьезным, и Еленка не решилась их окликнуть, задержавшись у ларька. Купила конфет старухе в гостинец, а потом долго бежала следом, потому что шли они широко и, увлеченные разговором, не заметили, что она отстала. Догнала возле баржи-такелажки, да и то потому, что Иван остановился.
– Гляди, парень, вот в этих хоромах настоящие волгари живут, потомственные, – сказал он, указывая палкой на старую, замшелую баржу. – Здесь теперь склад такелажный, а хозяин – шкипер, значит, – с хозяйкой жилье себе оборудовал. Утеплил, ну, печку я им сложил, и – живут!
– А зимой?
– И зимой тоже. Прежде на брандвахту переселялись, а теперь не хотят. Приросли к этой барже, как чага к березе. Да и то, деваться старикам особо некуда: было два сына – война забрала, а дочь в городе Ленинграде живет, замужем. Ну, и опять же в Ленинграде вода другая, а тому, кто на Волге вырос, это не все равно.
– Скотинка у них тут, – улыбнулась Еленка. – Кот Васька, собака Дружок да коза Машка. Невелик зоопарк, а есть каждый день просит.
– Люди они старые, а значит, с чудинкой, – сказал Иван. – Ты учти это, Сергей.
– Будет сделано, капитан. Не у бабы-яги росли, понимаем…
Иван первым ступил на хлюпающие сходни, и, как только чмокнули они под его тяжестью, тотчас же настороженно тявкнула собачонка.
– Свои, Дружок, свои! – крикнула Еленка, проходя вслед за Иваном на баржу.
Собака подошла, ткнулась в ноги Еленке, обнюхала Сергея и, степенно помахивая хвостом, проводила до тяжелой двери. Иван стукнул в дверь палкой, приоткрыл, крикнул в сумрак коридорчика:
– Можно, хозяева?
Никто не отозвался, но они, не задерживаясь, прошли этот коридорчик, и Иван постучал в следующую дверь – такую же тяжелую, срубленную, вероятно, еще в прошлом веке.
– Кого бог несет? – донесся из-за двери скрипучий старушечий голос, показавшийся Сергею неприветливым.
При этих словах Иван распахнул дверь и посторонился, пропуская Еленку и помощника.
Они вошли в кухню, крохотную из-за громоздкой русской печи. В кухне стоял тяжелый корабельный стол, который не дрогнул бы и от десятибалльного шторма, и такие же, рубленные топором, лавки.
У квадратного оконца сидела сухонькая, чистенькая старушка с черными, живыми и, как опять показалось Сергею, недобрыми глазами. Строго поджав губы, она молча смотрела на них.
– Здравствуй, Авдотья Кузьминична, – сказал Иван и подал старухе руку. – Вот нового помощника привел для знакомства.
– К чаю поспели, – сказала старуха, сунув Сергею жесткую, как наждак, ладонь и расцеловавшись с Еленкой. – А познакомиться – еще познакомимся: до ледостава далеко.
Сказавши это, она отвернулась и начала доставать из стенного шкафчика граненые стаканы.
Еленка осталась помогать ей, а мужчины прошли в комнату; в проеме вместо двери висела ситцевая занавеска. Здесь стояли кровать со множеством подушек, платяной самодельный шкаф, дерматиновый диван, несколько стульев и стол – точная копия того, кухонного. За столом сидел грузный, в седых космах старик и читал толстую растрепанную книгу. При виде вошедших он аккуратно заложил книгу листочком и снял круглые железные очки.
– Здорово, капитан, – сорванным голосом сказал он. – Слыхал уж и про беду твою, и про удачу.
Старик крепко пожал им руки, они сели, и Иван спросил с удивлением:
– Что сипишь-то, Игнат Григорьич? Простыл?
– Да вот… – Старик покашлял, покосился на занавеску, помял пальцами большой, заросший седой куделью кадык. – Должно, так…
– Где там! – крикнула из кухни старуха. – Напился в Петров день да все песни играл, как молодой!
Старик смущенно крякнул, но спорить не стал. Закурил предложенную Иваном папиросу, глянул на Сергея выцветшими, но еще по-молодому пристальными глазами:
– Волгарь?
– Саратовский.
– Или там работы нет?
– Работа везде есть, – осторожно ответил Сергей.
– Посторонитесь-ко, – сказала Еленка, внося кипящий самовар.
Она поставила самовар на стол, опять пошла на кухню. Старик крикнул вдогонку:
– Мать, а мать, пошуруй-ка в шкапчике!..
– Шурую, – отозвалась старуха. – Ты уж тут так прошуровал, что и глядеть-то не на что.
– Не надо, Игнат Григорьич, – поспешно сказал Иван. – Не хлопочите.
– Твое дело, Ваня, гостевое, – сказал шкипер, вставая. – А нам для знакомства обычай велит.
Он прошел на кухню. Сергей ударил кулаком в ладонь, зашипел:
– Неладно получается, капитан. Старики, понимаешь, шуруют, а мы… Давай я сбегаю?
– Ох, напрасно все это! – вздохнул Иван. – Не к месту, не ко времени… Да и не достанешь уже: закрыто.
– Это я-то не достану? – улыбнулся Сергей. – Засекай время, капитан…
В дверях он столкнулся со шкипером: старик торжественно нес четвертинку.
– Такой, стало быть, нынче улов, мужики… Ты куда это, парень?
– Четверть часа поскучайте, – сказал Сергей и вышел.
Он вернулся быстрее, чем обещал: вошел красный, запыхавшийся, но довольный. Молча поставил на стол бутылку, сел слева от шкипера.
– Выпить захочется – так и парилка не нужна, – улыбнулся старик.
Стол был уже накрыт: сопел самовар, стояли стаканы, соленая щука, вяленый лещ, грузди прошлогоднего засола – уже склеенные, пожухлые, моченая брусника, отварные, крепенькие – одна к одной – сыроежки в уксусе.
– Все теперь на вино горазды, – сказала старуха. – Что мужики пьют да бабам подносят – это не удивительно, а вот что бабы пьют да мужикам подносят – это уж совсем на удивление.
– Вот я тебе, мать, и поднесу, чтоб меньше удивлялась, – улыбнулся шкипер и налил старухе на донышко граненого стакана. – Ну, гости дорогие, выпьем, как говорится, за хлеб да за сено, за пол да за стены, за мышку, за кошку, за нашу дворняжку да за козу Машку.
Мужчины выпили, а женщины только пригубили и тут же отставили стаканы подальше.
– Кушайте, гости дорогие, – сказала старуха и, отломив корочку хлеба, стала жевать ее передними уцелевшими зубами.
Еленка ухаживала за ней, выбирая кусочки помягче и повкуснее. Авдотья Кузьминична принимала эти знаки внимания с царственной невозмутимостью.
– Мы с тобой на той неделе по чернику пойдем, – сказала она. – Как, Иван, отпустишь матроса-то?
– Да какая тебе черника сейчас! – засмеялся шкипер. – Ноги убьете да комаров покормите – вот и вся добыча.
– Сегодня у нас что? – спросила Авдотья Кузьминична и сама же важно пояснила: – Сегодня у нас семнадцатое, по-старому – день Андрея Наливы и память иконы божьей матери Ганатской. Через четыре дня – Казанская. А на Казанскую, считай, так: поспела черника, поспела и рожь. Зажинки в старину начинались, песни по вечерам молодежь играла, и хороводы водили в поле.
– Это же когда было-то, мать? – улыбаясь, спросил шкипер. – Это тогда было, когда мы еще без химии жили. А теперь все смешалось и календарь твой недействительный.
– То не мой календарь, а божий, – строго сказала старуха. – Земля по божьему календарю творит.
– Ну, насчет приметы это верно, – сказал старик, сдаваясь. – Коли черника, то и рожь. Это верно.
– А насчет леща какая примета, Игнат Григорьич? – спросил Иван. – Пообещал я, понимаешь, Никифорову мальчонке…
– Лещ вообще-то берет, – сказал шкипер. – Однако жара стоит, звон в воздухе, а он этого не любит. В глубину ушел, к стрежню поближе. Попробуй с плотов, что против Никольских островов зачалены.
– А на приваду что?
– Кашку свари покруче: пшенку либо перловку. Анисовых капель добавь маленько, чтобы дух по воде шел. А червей я тебе дам.
Червей старик разводил сам в железном ящике, подсыпал им мучицы и спитого чаю, раз в два дня поливал разведенным молоком. Черви у него росли крупные, вертлявые, ярко-красные – один в один, не в пример бледным и тощим обитателям супесных берегов.
– Давай, мать, за молоком завтра навостряйся, – озабоченно сказал старик. – Пятые сутки червей одним чаем потчую.
– А что же Машка-то ваша? – спросила Еленка. – Или забастовала?
Старуха горестно вздохнула, а шкипер засмеялся:
– Тю-тю наша Машка! Продали мы Машку-то свою. Аккурат в Петровки и продали.
– Продали?.. – ахнула Еленка. – Да как же так?
– Расскажи, мать. Повесели гостей! – смеялся шкипер.
– Смеху тут немного, – вздохнула старуха. – А дело было так. Задумала я козленочка поиметь…
– Это она задумала, она!.. – хохотал шкипер. – Не Машка, Трофимыч, а она!
– Да будет тебе, – отмахнулась старуха. – Ну, покормила я свою Машку, почистила, причесала – ладненькая такая козочка стала, аккуратненькая. Григорьич ей рюмочку поднес – заиграла моя Машка, как молодая: копытцами бьет, глаз имеет, трепещет вся. Ну, думаю, быть мне с козленочком. Привела ее на пункт, фельдшеру предъявила. Осмотрел ее фельдшер, огладил. «Давай, говорит, Кузьминична, с богом на святое дело. Сейчас, говорит, Борьку приведу». Отвел он меня во дворик, указал, куда Машку привязать, а сам ушел. Привязала, стою. Обошлось, думаю, не углядел фельдшер, что Машка-то ровня мне будет, если по козлиному веку считать. Только это я порадовалась, фельдшер козла вводит, Борьку то есть. Глянула я: батюшки светы, бугай! Ну, чистый бугай: грудь колесом, рога как оглобли и землю копытом роет. «Не мешай ему, – говорит фельдшер, – Кузьминична: дело он свое знает, породы знатнеющей, только, говорит, с норовом, паразит». Впустил он, значит, его, а сам пошел: дела, мол. Ну, я стою, жду. И Борька стоит. И Машка моя вздыхает, ножками перебирает, глаз на меня косит: перепугалась, видать. Машенька, говорю, касаточка, не бойся, говорю. Он, говорю, только с виду такой архаровец, а так – козлик как козлик. Только это я сказала, Борька вдруг фыркнул этак насмешливо, подскочил да как с разгона даст Машке в бок. Машка – и ножки кверху, а он, паразит, развернулся да этим же манером мне в зад рожищами-то своими! Я и с копыт долой. Валяемся вместе с Машкой в пыли, а он отошел в сторонку и ровно смеется над нами. Поднялась я: пойдем, говорю, Машка, домой. Видно, говорю, стары мы с тобой стали: фельдшера еще обмануть можем, а уж козлов этих чертовых…
– Разобрался козел-то! – весело кричал старик. – Сразу, брат, и разобрался, и меры принял!..
– Вот и решили мы Машку продать, – вздохнула старуха, не обращая внимания на шумную веселость мужа. – В Петров день и продали. Наревелась я, как веревку-то из полы в полу передавала, а этот, – она кивнула на шкипера, – только водку глотал да песни орал с радости.
– С горя, мать, с горя! – сказал шкипер. – И мне Машку жалко, но обновление в жизни должно быть.
– Неужели продали? – тихо спросила Еленка, все еще не веря.
– Уговорил, – опять вздохнула старуха. – Неделю балабонил: телка, говорит, купим.
– Телок-то получше будет, – сказал вдруг Сергей.
– Да, – сказал старик, закуривая. – Коза – ту хоть газетами корми, а коровке сенцо подавай.
– Ну, вот и на попятный, – пригорюнилась Авдотья Кузьминична. – Ну, ровно чуяла я…
– Будет, мать, у тебя телок, будет, – сказал шкипер. – Я от своего слова сроду еще не отказывался. А что сено теперь дороже молочка, так это тоже надо учесть.
– Без коровушки и дом не дом, а так, общежитие, – тихо сказала старуха. – Ты вот, Еленка, не понимаешь этого, а когда зимой-то стоит она за стеной да вздыхает, до того тепло на душе становится, до того радостно… Это ведь скотина добрая, незлобивая, а уж такая ласковая, такая привязчивая, что и человек рядом с нею ровно оттаивает. И уж не о суетности мирской, а о вечном думает, о добром…
– Христианка ты у меня, мать, – улыбнулся шкипер. – Чуть что – сразу по Писанию.
– Крестьянка, – строго поправила старуха. – Крестьянка я, Игнаша, крестьянская дочь.
– А ты, Игнат Григорьич, с колхозом насчет сена не говорил? – спросил Иван. – Может, столкуешься: выделят деляночку. А с покосом мы тебе всегда поможем.
– Покос не вопрос, да осока в цене высока, – улыбнулся шкипер. – Тыщу лет деды наши осоку эту с низин выводили, а мы ее обратно единым махом.
– Как это так? – спросил Сергей.
– Просто, парень: пойму затопили. Все заливные луга, все низиночки да ложки под воду ушли, а остались одни косогоры, где сроду ничего, кроме бурьяна, и не росло.
– Да, убили красу, – вздохнула старуха.
– Странные это рассуждения, – сказал Сергей. – Много чего, конечно, жалко, но не это же главное. Главное – электроэнергия. Энергия, а не цветочки в девичьи веночки. А потом – чего старое-то жалеть? Отгуляло и – не брыкайся!..
– О сегодняшнем дне все стараемся, – перебил шкипер. – Сегодня купить на рупь пятаков, а завтра – хоть трава не расти. Так?
– Не так! – резко сказал Сергей. – Энергия – это и сегодня, и завтра, и вообще… Красоты не будет, да? Ну, этой не будет, так другая будет, велика ли важность.
– Ладно, отложим красоту. – Шкипер надел очки и достал книгу, которую читал до их прихода. – Парень, я вижу, ты деловой, и красота тебе – как безногому валенки. Давай и мы по-деловому рассудим. Знаешь ли ты, парень, что такое луг вырастить? Не год на это уходит, не сто лет – тысяча. Тысячу лет люди луга эти пестовали, кочкарник да лютик всякий на нет сводили, кусты корчевали, болота сбрасывали. И лугам цены не было, и скот нагуливался тут такой, какой сейчас только на выставке и увидишь. Теперь же луга эти под воду ушли карасям на утеху, низины позатопило, и всего в приплоде имеем одну осоку да болотный мох.
– Ежи пропали, – сказала вдруг старуха. – Раньше ежей в лесу было – тьма-тьмущая, а теперь совсем пропали.
– Сырость, – подтвердил старик. – Боровая дичь да зверье начисто из этих мест ушли. А лес с ними сжился, они ему помогали, он их кормил. А сейчас что будет? Утка тебе семян не разнесет – для этого белка нужна, глухарь, тетерев. И с этой стороны лесу – полный карачун, и через сотни лет внуки наши одну сплошную ольху вдоль всей Волги увидят – там, где на нашей еще памяти мачтовые сосны шумели.
– Да все устроится, – сказал Сергей. – Ну, напортачили, конечно, это есть, а панику поднимать не стоит. Сейчас в наших руках техника, атом, химия – все исправим, дайте срок!..
Старик угрюмо молчал.
– Домой! – сказал Иван и встал. – Спасибо вам, хозяева, за хлеб-соль, за ласку…
Ночь выдалась черная, звездная, густая. Ивана чуть пошатывало, и Еленка вела его под руку. Сергей шел сзади, сунув руки в карманы. В сонной тишине тяжело ударил запоздалый жерех.
Разбудили их рано: в четвертом часу гулко загрохотало над головой:
– Эй, хозяева, к диспетчеру на полных оборотах!..
В кубрике было еще темно. Еленка сидя натянула платье, соскочила на холодный пол. Иван уже возился наверху, открывая задраенные на ночь люки.
– Видать, в Красногорье пойдем, – сказал он. – Туда пораньше надо, пока плотами ход не заставили. Отдавай чалку, Сергей.
Сергей спрыгнул на баржу, отпутал разлохмаченный старый канат, спросил:
– А завтракать?
– На ходу. – Иван запустил двигатель. – Еленка покормит по очереди.
До десяти они без отдыха сновали по реке: ходили в Красногорье, возили приказ в контору, проволоку на вторую сплоточную, монтеров в самые верховья: там открывался хлебный ларек. Хлопот было много, а еще больше – криков и недовольства, потому что всем было некогда, а старенький катерок никак не мог одновременно поспеть в разные концы.
– Вот глупость-то! – сердился Сергей. – За каждым нарядом к диспетчеру мотаться – это ж придумать надо!