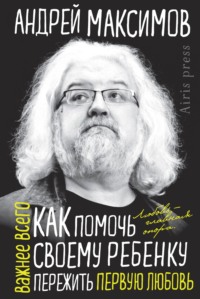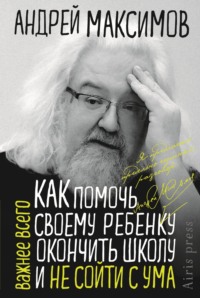Полная версия
Кто вам сказал, что вы живы? Психофилософский роман
– Ну ты, Серый, даешь, дурья твой башка. Премьера, сечешь? Банкет, сечешь? А кто-то хотел певицу записать…
Вот умница какая! Как же я сам с ходу не сообразил?
Гениально!
_______________________________________________
Я вынул Лягу из ляговоза и поставил на стол.
Я готов поклясться чем угодно, что Ляга смотрела на меня изучающе.
Наверное, это противоречит каким-нибудь законам биологии и еще чему-нибудь… Я заметил: самое интересное на свете обязательно чему-нибудь да противоречит… Не важно.
Противоречит или нет, но Ляга сидела на столе, никуда не скакала и смотрела на меня.
С интересом смотрела. Так мне кажется. Изучающе.
Я попытался представить, каким эта кроха видит мир.
Люди кажутся ей огромными и страшными типа монстрами, способными в любой момент сделать с ней что угодно…
Я увидел, как надо мной опускается гигантская рука, хватает меня и куда-нибудь переносит. Ужас!
Мне стало ужасно жаль мою Лягу…
Я четко врубился, что почему-то привязался к этому глазастому существу. Она совсем не казалась мне скользкой и противной.
Если бы она погибла в диванных пружинах, я бы сильно расстроился…
С кухни доносился вкусный запах блинов.
Я осторожно взял Лягу. Она не сопротивлялась. Удивительное дело: почему-то она не сопротивлялась никогда, словно не ожидала от меня ничего плохого.
Так же осторожно опустил ее в аквариум и пошел на кухню: хотелось пожрать.
В дыму и чаду стояла мама и жарила блины сразу на трех сковородках.
– Мам, зачем столько? – ахнул я.
– А как же! Класс ваш – целая орава. Да еще ваши американские друзья. Надо же, чтобы всем хватило!
Я поцеловал маму в макушку.
Мне стало неловко за свою шутку, но отступать было некуда. Придется завтра потрясти одноклассников. Надо еще придумать, как объяснить, чего это я вдруг приперся с блинами.
– Много не ешь, – буркнула мама, увидев, как я схватил блин. – Другим не достанется. Надо всегда думать о других.
Меня воспитывают все и всегда. Постоянно. Нет и не может быть такой ситуации в жизни, чтобы взрослые не использовали ее для воспитания подрастающих придурков, то есть нас. Я уже привык к этому, но все равно иногда жутко раздражает.
Какая же это жесть: утро!
Когда надо подняться, глядя в грязную утреннюю пустоту, и постепенно въехать в то, что, кроме пустоты, тебя в ближайшем будущем не ожидает ровно ничего.
Я поднялся, не открывая глаз. Подошел к аквариуму. Это теперь стало утренней привычкой.
Ляга сидела на островке и пялила на меня свои глазищи.
Не знаю, может, у лягушек есть какие-нибудь биологические часы, но мне приятно было думать, что Ляга специально ждет меня, чтобы поздороваться.
– Привет, Ляга! – сказал я и пошел на кухню.
Там стояли две кастрюли с блинами, накрытые пледом и одеялом.
Рядом лежала записка: «Блины постарайся согреть. Вот тебе деньги – купи обязательно сметаны, а то американские друзья не распознают вкус. Целую. Мама».
Мне опять стало стыдно. И мысль о том, что можно просто выкинуть блины на помойку, едва возникнув, тут же испарилась в моем мозгу.
Я взял два огромных пакета, положил в них кастрюли, и, грохоча всем этим, честно пошел в магазин за сметаной. Идея присвоить себе «сметанные» деньги, разумеется, возникла, но я ее отогнал.
Первым уроком была алгебра, и это облегчало дело.
Учительница алгебры Серафима Ильинична была еще совсем молодая девушка, которая изо всех сил старалась делать вид, будто любит нас. Видимо, она решила найти путь в наши сердца через любовь. Однако алгебра от этого интересней не становилась.
Серафима Ильинична честно старалась не быть злыдней, иногда, правда, срывалась. Те ребята, кто решил поступать в математические вузы, говорили, что она нормально врубается в предмет. Остальных это просто не касалось.
Я дождался, пока все, включая Серафиму, войдут в класс, решительно влетел, поставил обе кастрюли на учительский стол, произнес веско:
– Серафима Ильинична, разрешите? У меня важное сообщение, – и, не дожидаясь ее ответа, продолжил: – Уважаемая Серафима Ильинична! Дорогие френды, коллеги, дамы и господа!
Класс сидел тихо и настороженно. Никто даже не хихикнул.
Серафима Ильинична отошла к окну и смотрела на меня взглядом, полным тревоги и безнадежной тоски одновременно.
– Мы христианская страна, – заявил я авторитетно. – Все знают, что весной бывает Масленица, когда христиане едят блины. Но! Но! Но! Мы христианской страной были не всегда. Раньше мы были язычниками…
– Кем? – спросил со своего места лопоухий Сашка, который всегда занимался только тем, что продавал и покупал. И больше его не интересовало ничего.
На него зашикали. Всем было интересно, что случится дальше. Во всяком случае, куда более интересно, чем слушать какую-нибудь математическую ерунду.
– Язычниками. Людьми, которые поклонялись богу Солнца. И вот у них тоже был свой праздник, на который они пекли блины. Ведь что такое блин, если вдуматься? Это маленькое солнце! Вот они их и пекли.
С первой парты, конечно же, выступила отличница Ленка – как же без нее? Ленка никогда не упустит случая выпендриться и показать, что она круче всех.
– Где они муку-то брали, язычники эти? – язвительно спросила она.
Но если я начал – меня уже так просто не остановить.
И я сказал уверенно:
– На мельницах. – И повторил еще раз: – Да! Мельницы были изобретены при язычниках. Это известно всем. Но не суть. И вот сегодня как раз языческая Масленица, так сказать. Серафима Ильинична, сейчас, как известно, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, то есть нас. И я лично считаю, что в деле патриотического воспитания молодежи очень важно вспомнить праздники наших далеких предков. А потому я вместе со своей замечательной мамой испек этих блинов…
– Эти блины, – автоматически поправила меня Серафима Ильинична.
Она явно находилась в состоянии ужаса.
Я продолжал:
– И, с точки зрения патриотического воспитания, мы должны их немедленно съесть, чтобы запомнить, как праздновали языческую Масленицу наши далекие предки.
– Петров, вы срываете мне у… – начала Серафима.
Но было, конечно, поздно: все бросились есть блины.
– Стойте! – крикнул я. – Стойте, подлые!
Все замерли.
– Одну секунду подождите, голодные люди, – попросил я.
После чего вынул из рюкзака тетрадку, положил на нее аккуратно три блина и преподнес их Серафиме Ильиничне со словами:
– Серафима Ильинична, вы напрасно расстраиваетесь. Мы сейчас все съедим и с утроенной энергией примемся за математику.
– Ага… – Подтвердили все. – Мы быстро!
И бросились на блины.
Серафима Ильинична взяла блин и произнесла задумчиво:
– То, что ты все это придумал, Петров, я понимаю – не дура. Но зачем? Это ж какой труд – столько блинов испечь!
– Патриотическое воспитание, Серафима Ильинична. Чего не сделаешь…
Серафима посмотрела на меня зло. К сожалению, она была умной женщиной.
– Вы понимаете, Петров, что я должна буду доложить об этом случае директору?
Я улыбнулся:
– Еще блинчик не хотите? Моя мама очень вкусно печет блины, не правда ли? А сказать – конечно. Обязательно. Это ж патриотическое дело… Правда, учительница, которая не смогла предотвратить срыв урока, выглядит не очень хорошо. Тем более молодой специалист… Скоро вся школа – да что там – весь район! – заговорит о том, как дети на уроке алгебры ели блины вместе с учительницей… Вы угощайтесь, Серафима Ильинична, угощайтесь. И обязательно скажите.
Я достал телефон и щелкнул, как Серафима ест блины.
– На память, – улыбнулся я.
Все тоже достали свои телефоны, но я остановил порыв:
– Ребят, не надо. Социальные сети должны остаться в неведении об этом событии, а то мы поставим нашу учительницу в неловкое положение.
Я посмотрел на Серафиму.
Сметана стекала у нее по подбородку тонкой струйкой.
Я понял, что она никому ничего не скажет.
Все получилось. Я победил.
– Классно ты все придумал, – Ира как бы случайно дотронулась до моего рукава.
Обожаю такие случайности!
Я посмотрел ей прямо в глаза:
– Мне очень хотелось, чтобы тебе понравилось. Очень.
Ира не отвела взгляд:
– А с любовью всей жизни когда будешь знакомить?
– Завтра. Я за базар отвечаю.
Ира резко отвернулась и села на свое место.
Ее реакция мне очень понравилась.
Все шло хорошо. Правильно все шло.
Как и должно идти у победителя.
_______________________________________________
Мы сидели с Ольгой на кухне и делали вид, что ужинаем вместе.
Я думал про свое.
Оля доказывала мне необходимость покупки аквариума, потому что, видишь ли, кто-то, кому она доверяет абсолютно, объяснил ей, что аквариум… какая-то там энергия… что-то там еще…
В общем, бабский бред, как всегда. И ладно. Не спорить же!
Я кивал, вроде как соглашался. И даже что-то такое говорил, думая при этом про свое.
Я научился так говорить с Олей.
Должен сказать: это умение – думать про свое, но при этом согласно кивать, – очень облегчает семейную жизнь.
А думал я, надо сказать, про абстрактное, но почему-то для меня интересное.
Вот все бегают, ищут национальную идею. Придурки.
Русская национальная идея выражена в произведении Гоголя «Мертвые души». Или в произведении Пушкина «Пиковая дама». Или в произведении Достоевского «Игрок». И даже в произведении Булгакова «Мастер и Маргарита», если захотеть ее найти. Да, в сущности, во всех великих произведениях русской литературы идея эта выражена, если вчитаться и вдуматься.
Идея незамысловата, но действенна. Звучит примерно так: обмани (интеллигентно говоря, материться не люблю) другого, чтобы заработать самому. Вот и все.
Так и живет страна много-много лет, даже веков.
Не заработать, не создать, не придумать мы стремимся, а именно – как же трудно не использовать здесь матерное слово! – обмануть.
И «Мертвые души» про это. И «Пиковая дама». И все эти критики дебильные в «Мастере» – они почему хорошо живут? Потому что удалось обмануть всех, их фигню печатают – они процветают.
Самый богатый человек в мире, Билл Гейтс, придумал Майкрософт. Самый богатый человек в России – кто сейчас, не важно, – обманув всех, первым подбежал к нефтяной трубе.
Я видел кино про Стива Джобса, который даже Билла Гейтса обошел по деньгам. Как он там пробивал свою идею. Хороший фильм. Там про государство вообще ничего не сказано.
Придумал человек и – вперед! Государство не помогает, но и не мешает… Точнее, помогает тем, что не мешает.
А у нас? Все эти чиновники, которые были всегда, при всех режимах – они зачем? Случайно, что ли, над ними все время насмехаются, а победить не могут? Никто. Ни царь, ни советская власть, ни нынешние правители…
Случайно они так живучи?
Да нет, конечно.
Просто, если есть идея – то должен быть и ее символ. Это чиновник, который по законам этой самой идеи и живет: не надо ничего придумывать и строить, обмани других – тогда разбогатеешь.
Чиновники – это не зло, а естественная часть России. Как снег и гололед. Тоже ведь – неприятно, а куда это все денешь?
Вот я почему обрадовался, что у нас премьера завтра?
Потому что премьера – это такой театральный праздник, на котором все заняты. И директор наш в том числе. Почти наверняка ко мне в студию не зайдет.
К тому же у нас так поставлено дело, что провести человека в театр – если ты, конечно, не артист народный, а простой звукорежиссер, – ты можешь, только заказав пропуск в приемной директора. А там – надо объяснять, кто да зачем.
А вот когда премьера – ничего объяснять не надо, да тебя даже никто спрашивать не будет – премьера ведь!
Это все что означает? Что закажу я пропуск Ирине Стук и ее директору Валовой.
А потом в студии театра сделаю запись этой никому не нужной певицы и заработаю деньги лично. Оборудование театральное, а деньги мои. Так вот я реализую национальную идею.
Театр не обеднеет – я разбогатею. Так мы, русские, и живем. И всем хорошо.
Ну, а если даже – что вряд ли – директор все-таки ко мне заглянет, например, чтобы показать своим гостям, как у нас ладно все устроено в звуковой студии, так я объясню ему: вот, мол, гости пришли на премьеру, показываю, как у нас в театре все чудесно и по-современному.
В разгар Олиного монолога и моих радостных размышлений пришел Сережка, сказал:
– Мам, американцам очень понравились твои блины.
Поцеловал ее, пожал мне руку и пошел к себе в комнату слушать свои дурацкие гаджеты.
Какие американцы? Какие блины?
Не важно.
– Так купим аквариум? У Сережки вон стоит – он говорит, помогает.
– Обязательно купим, – ответил я. – Вот подзаработаю чуток и купим.
Оля подошла и поцеловала меня. Как ей казалось, нежно.
Для того ли я заработаю эти Стукины деньги, чтобы покупать какой-то дурацкий аквариум?
Да нет, конечно.
Я не стану аквариум покупать.
Ольга про него скоро забудет, как уже бывало не раз. Просто забудет и все.
Я знаю, что будет именно так.
И Ольга знает, что никак по-другому не будет.
И Ольга целует меня, как ей кажется, нежно.
И я улыбаюсь ей, как ей кажется, по-доброму.
И мы оба понимаем, что мы врем.
И она идет к своему любимому дивану.
А я включаю телевизор, где на каком-нибудь ток-шоу будут врать про национальную идею, потому что правду никто не хочет говорить. Или боится.
Так и идет наша семейная жизнь.
Кому плохо?
Всем хорошо. И мне, и Ольге, и Сережке.
Семья – это маленькое государство.
Разве счастлива та страна, в которой властвует правда? Ничего подобного.
Счастлива та страна, в которой властвует гармония. А на правде она построена или на лжи – никого не волнует.
В семье то же самое.
Разве я плохой муж или отец?
По-моему, чудесный! Я воплощаю русскую национальную идею. Мой сын и моя жена вполне себе счастливы. В семье расцветает гармония.
Все хорошо!
Я заглянул в комнату сына.
Он стоял над аквариумом и будто рассматривал в нем что-то.
«Наверное, получает положительную энергию», – усмехнулся я и включил телевизор.
_______________________________________________
Мама пошла в туалет с книжкой – это надолго.
Я прошмыгнул к ней в комнату.
Нитки лежали в красивой шкатулке. Я выбрал разной плотности три катушки: красную, желтую и черную. Хотелось бы еще, конечно, зеленую для понта. Но не нашлось.
Ляга сидела на островке и смотрела на меня, как мне показалось, внимательно.
Не надо только мне рассказывать, что я придумываю все про лягушек, что они так не живут, не смотрят, не интересуются… Что они устроены вовсе не так, как мне кажется.
И кому от этих знаний клево будет? Мне не будет!
А про людей мы, что ли, не придумываем все время? Или, может, мы знаем, как люди устроены? Да ладно…Все время выясняется, что мы устроены вовсе не так, как нам казалось вчера.
В общем, фигня это все.
Я достал Лягу и спросил, показывая на катушки:
– Тебе какой поводок больше нравится?
Ляга нырнула в аквариум и стала спокойно плавать, не обращая на меня внимания.
Мне хотелось Лягу выгуливать.
Кошек – и тех выгуливают, не говоря уж о собаках. В интернете сотни тысяч просмотров набрал мужик, который козла выгуливает на поводке. На крокодилов надевают какую-то специальную фигню, чтобы можно было прогуливаться с ними.
Чем Ляга хуже?
Я вынул Лягу из аквариума.
У лягушек, в отличие от собак, кошек и коз, шеи нет, у них голова прямо на туловище надета.
Я попробовал обмотать веревку вокруг лапки.
Очевидно, что Ляга совершенно не желала быть привязанной. Она все время вырывалась, упрыгивала и сидела, нагло глядя на меня своими глазищами.
Взгляд был издевательский. И не надо мне говорить, что я это все придумываю.
Издевательский был взгляд.
Очень скоро я понял, что привязать за лапку не удастся, а вот сломать лапку – запросто.
«Интересно, – подумал я, – а если лягушка ломает себе что-нибудь, ей гипс кладут?»
Заниматься возможностью выгуливания Ляги было куда интересней, чем сидеть за компом. Никакой квест, никакие стрелялки не сравнятся с этим занятием.
Выйти с Лягой на улицу – это, конечно, было бы круто. Да и по школе пройтись – нормально. На Ирку бы это точно впечатление произвело бы.
Можно было бы попросить Ирку ждать меня в кафе и впереться туда с Лягой на веревке.
Круто!
Только вот Ляга совсем не хотела привязываться.
Сначала она никак не позволяла обматывать свое тельце нитками.
Когда же мне это все-таки удалось, Ляга рванула, и нитки порвались.
Я не самый терпеливый человек на свете. Но тут мне хватало выдержки – ловить и мотать, ловить и мотать.
Ляга дергалась, и нитки рвались.
Очень скоро я понял, что недооценил силу Ляги: нитки не годились, нужна была бечевка.
Я постучал к маме – надо было положить нитки на место.
– Да-да, сынок, заходи, – вздохнула мама.
Она, как всегда, лежала на диване.
– Мам, я тут нитки брал, – я пошел к шкатулке.
– Зачем?
– Дырку зашить… – Я задумался. – В брюках.
– Что ж меня не попросил?– спросила мама, не отрываясь от книги. – Совсем ты уже вырос.
То, что я зашивал брюки тремя разноцветными нитками, да к тому же без иголки, маму совсем не волновало.
Я купил в магазине бечевку.
Но и она не сработала: Ляга оказалась слишком скользкой и просто выскальзывала из нее.
Ну что ж… Придется сделать вывод, что не все в этом мире рождены для того, чтобы их выгуливали. Выгуливать можно не всех.
Ради такого вывода можно было прожить день – почему нет? Та фигня, которую мне предлагает мир и в особенности школа, вообще не рождает никаких выводов.
Я посмотрел дневник – выяснить, есть ли завтра что-нибудь важное.
ЩИПАЧЕВ!!! Крупными буквами было записано у меня.
Забыл совсем.
Я распечатал стих в Интернете:
Любовью дорожить умейте,С годами – дорожить вдвойне.Любовь – не вздохи на скамейкеИ не прогулки при луне.Все будет: слякоть и пороша,Ведь вместе надо жизнь прожить.Любовь с хорошей песней схожа,А песню нелегко сложить.Если вся советская литература – такая же назидательная херня, то кому оно надо все?
Это что – стихи, что ли? Будьте дети хорошими, и все у вас сложится…
Бред какой!
Вот предки вместе жизнь проживают – у них песня, что ли?
Отец одно поет, мать – другое. Живут, вроде как, вместе. И это песня? Херня, а не песня.
Я бы не возражал с Иркой повздыхать. В баре каком-нибудь. И при луне погулял бы, поди плохо!
Ладно, покажем завтра, что такое любовь.
И Семену этому Витальевичу покажем. И Ирке.
Сейчас пару часиков за компом – и спать.
Завтрашний день обещает быть интересным.
_______________________________________________
Мы же не знаем, куда умираем, правильно? Не знаем…
Раз… Два… Три… Проверка… Пошла запись.
Так вот. Мы не знаем, куда умираем. И откуда в этот мир приходим – тоже неизвестно.
И вот я думаю иногда, что, когда человек умирает, он обязательно попадает на кладбище своих чувств. Где-то там, куда мы умрем, оно непременно должно быть – кладбище наших чувств.
Чувства – они ведь живые, правильно? А все, что живет, обязательно умирает, и чувства умирают, и мы это знаем прекрасно. Куда деваются, когда умирают?
Так вот, я думаю: есть кладбище такое. Там табличек нет, конечно, но просто надписи парят воздухе.
Плывет твоя, вылетевшая из тела, душа в воздухе. И вдруг возникают слова… Например… Любовь к Лере… Значит, здесь покоится моя первая любовь…
Детский страх темноты… Тоже ведь – чувство, и тоже там покоится. Безумная любовь к мороженому… Ужас первого секса…
На кладбище чувств – множество могилок именно детских чувств. Почему они умирают?
Радость первого утра каникул… Восторг от того, что забил гол… Трепет от впервые замеченных девчоночьих глаз… Ужас выглядеть глупым, стоя у доски… Страх, что над тобой будут смеяться, когда ты сидишь на школьном унитазе…
Это все умирает и покоится на кладбище чувств.
Как нас удивительно создал Господь: чем старше мы становимся, тем меньше у нас чувств. Зато и похороны чувств реже случаются. Наверное, когда я совсем состарюсь, все чувства превратятся в привычку. Я буду одна такая большая привычка…
Любовь – она умирает, конечно, в более зрелом возрасте. В детстве рождается, в более зрелом – умирает.
Оно ведь как все происходит? Кажется, что умерла любовь к конкретному человеку, а потом выясняется, что она умерла как таковая, вся. Закончилась.
Нет у тебя больше такого чувства: любовь.
Похоронили ее на кладбище чувств, и живет себе человек без любви. И постепенно привыкает к этому.
Нет, всполохи, конечно… Это да. Взрывы там. Эмоции, разумеется. Только к любви это все отношения, в сущности, не имеет.
Любовь к кому-то конкретному может умереть вдруг, мгновенно, внезапно – словно человек, у которого случился сердечный приступ и не откачали.
Любовь как чувство, составляющее смысл жизни, уходит медленно – как человек, у которого случился инфаркт или инсульт: болеет, болеет, а потом – раз! – финальный удар! И – на кладбище чувств.
Когда кончилась любовь с Ольгой – кончилась любовь вообще.
Все, что было потом, к любви отношения не имеет. Никакого.
И тут зазвонил мобильник. Высветилось «Ирма. Директор».
И я потянулся к трубке.
Ничто не предвещало ничего.
Но тот, Первый, живущий во мне, вздохнул и тихо-тихо так произнес, неслышно почти:
– Неужели понеслась?
А Второй ответил грубо и громко:
– Оно тебе надо? Ирки тебе мало, что ли?
– Это Инесса Валовая, – сказала трубка. – Директор певицы Ирмы. Я хотела договориться с вами о записи.
Для человека по имени Инесса Валовая у нее был слишком приятный голос. Ей-богу, слишком приятный…
_______________________________________________
Я посадил Лягу в ляговоз – пора было показать ее одноклассникам. Или ей показать одноклассников – не важно. Класть ляговоз в рюкзак было невозможно, это понятно.
Пришлось отыскать отдельный полиэтиленовый пакет для ляговоза. Ненавижу таскать пакеты в руках, но тут выхода не было.
Первый, на кого я налетел в школе, был лопоухий Сашка, который зачем-то попытался выдернуть у меня пакет из рук.
– Сменку, что ль, принес? – радостно завопил он.
Я толкнул его в грудь, он отлетел к стенке, но даже не обиделся – привык.
У нас не ходят по школе с полиэтиленовыми пакетами. Непонятно почему, но не ходят. У нас в школе действует простой принцип: что не разрешено – то запрещено.
Семен Витальевич возник скалой:
– Что у вас в пакете, Петров?
– Счастье, – ответил я спокойно.
– Перестаньте лыбиться, Петров!
– Я не лыблюсь, Семен Витальевич. Кстати, давно хотел спросить у вас как у учителя русского языка и литературы: а что, собственно говоря, означает этот глагол: лыбиться?
– Петров, прекратите немедленно! – взвился Семен Витальевич.
– Что именно прикажете прекратить? – спросил я предельно вежливо.
– Сейчас на уроке литературы вы будете первым читать стихи Степана Петровича Щипачева, которые вы наверняка не выучили… Не выучили ведь?
– Как вам сказать…
Я тянул время в надежде, что Семен Витальевич отвлечется от пакета на мое воспитание. Когда учителя начинают воспитывать, их, как правило, ничего больше не колышет.
Если учитель воспитывает ученика, то будь хоть пожар, хоть взрыв, хоть землетрясение – он не заметит ничего. Проверено.
– Вижу, что не выучили, вижу! – обрадовался Семен Витальевич. – Первым спрошу, так и знайте.
И тут прозвенел звонок. Никогда еще, пожалуй, я так не радовался звонку на урок.
Всю дорогу я сижу за партой один. Не то чтобы я всех повыгонял или со мной никто не хочет сидеть, – просто так повелось. И меня это всегда радовало.
На фига кто-то рядом? Если что, с телефоном и пообщаться можно, и списать с него проще.
Семен Витальевич внимательно и хитро посмотрел на меня и произнес зловеще:
– К доске пойдет…
Все опустили головы, словно хотели спрятаться.
– Григорий Тумилин, – выдохнул педагог и хитро посмотрел на меня.
Вот педагоги – удивительные люди! Почему-то им нравится издеваться над своими учениками.
Витальич решил, что я буду теперь трястись весь урок, ожидая позора. Он просто не знает, какой сюрприз я ему приготовил. Пусть порадуется, бедолага.
Толстяк Тумилин вышел к доске и вздохнул:
– Шолохов. «Тихий Дон». Фрагмент.
– Нет! – вскрикнул Семен Витальевич. – Вы, Тумилин, сначала расскажите нам, кто такой Михаил Александрович Шолохов, каков его вклад в советскую, а значит, и в мировую литературу.