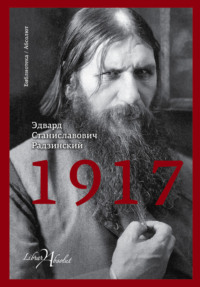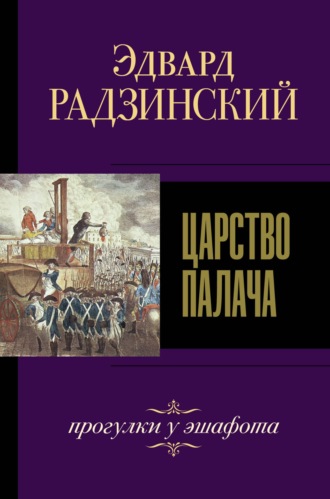
Полная версия
Царство палача

Эдвард Радзинский
Царство палача
© Радзинский Э.С.
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Царство палача
Зимой 1996 года я приехал в Париж. И все представлял, как ровно сто лет назад были в Париже – Они…
Шел 1896 год. Это был первый визит русского царя во Францию – после того, злополучного, когда поляк Березовский выстрелил в его деда. Поляк мстил за поруганную Польшу. К счастью, Александр II тогда остался жив (его убьют потом – бомбой).
Теперь никто не стрелял. Толпы восторженных парижан заполнили улицы. В открытой коляске ехали: красавица императрица, Государь – милый молодой человек в военной форме – и очаровательная дочка.
Он записал в дневнике:
«25 сентября произошла закладка моста, названного именем папа́. Отправились втроем в Версаль. По всему пути от Парижа до Версаля стояли толпы народу, у меня почти отсохла рука, прикладываясь. (Он отдавал честь, прикладываясь к козырьку фуражки. – Э.Р.) Прибыли туда в четыре с половиной и прокатились по красивейшему парку, осматривая фонтаны… Залы и комнаты интересны в историческом отношении».
Это «историческое отношение»… Оно уже тогда должно было Их поразить.
С площади Согласия (бывшей площади Революции) хорошо видны колонны церкви Маделен. Здесь, на кладбище у храма, когда-то были похоронены жертвы фейерверка. Он случился в знаменательные дни для той, французской королевской четы – во время бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты. И окончился страшными жертвами – сгорело много людей. Тогда в Париже говорили: это предзнаменование! Не к добру такое начало совместной жизни!
И у Них тоже произошло страшное и тоже в знаменательные дни. Случилось это незадолго до поездки в Париж, во время коронации… Они приехали на Ходынское поле – сверкало солнце, гремел оркестр. В павильоне – вся знать Европы. Но Они знали – все утро отсюда вывозили трупы: во время раздачи бесплатных подарков в ужасающей давке погибли почти две тысячи несчастных…
И тот же страшный шепот: не к добру это! С кровавой приметы начинается царствование!
«Интересны в историческом отношении»… Только потом царь узнает, как связан был с Ними Париж в этом самом «историческом отношении». Какой пророческой оказалась безликая фраза! Все, что узнали Они тогда в Версале, повторится в Их жизни.
Был мягкий, безвольный Людовик – и Николая будут называть мягким и безвольным.
И две Елизаветы – сестра Аликс, набожная основательница Марфо-Мариинской обители. И другая, столь же набожная, с той же неземной улыбкой – сестра Людовика XVI.
Мария Антуанетта была властной и надменной красавицей. И его жена – властная и надменная красавица. И та же ненависть народа к королеве – Марию Антуанетту называли «австриячкой» и обвиняли в измене и разврате. И его жену будут называть «немкой» и обвинять в прелюбодеянии с мужиком. И ненавидеть! Так же ненавидеть!
И как те в любимом Версале, Они в любимом Царском Селе увидят те же страшные, яростные толпы восставших и станут их пленниками.
На кладбище у церкви Маделен Революция похоронит обезглавленных короля и королеву. Они будут лежать в безымянной могиле, в грязной яме, облитые негашеной известью.
И Их впереди ждала такая же участь – безымянная могила, грязная яма. Их, которые ехали тогда такие счастливые по Парижу!
Оскверненный собор Парижской Богоматери, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедесталов статуи королей… Поруганные мощи святых (святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в Сену)…
Страшное кладбище у парка Монсо (оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай)… На этом кладбище они лежали вместе – блестящие аристократы и убившие их революционеры. И убившие этих революционеров другие революционеры…
Все эти воспоминания времен Французской Революции станут Их будущим. Возвращаясь из Версаля, Они не знали: перед ними было зеркало.
Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году.
И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать по-французски – «abdiqua» (отрекся). И должно быть, вспоминать, как Они стояли в той зеркальной зале.
Зеркала Версаля…
Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был уверен в своем трагическом предназначении.
И конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия Революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до Революции другим мистиком, неким Казотом.
Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств.
Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Водрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с Галантным веком: несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам (в век господства философов красивым женщинам приходилось быть еще и умными, коли они хотели быть модными). Приглашен был и Казот – философ, литератор и блестящий рассказчик. Но утонченной беседы не получилось – Казот весь вечер пребывал в тоскливом молчании, причем долгое время угрюмо отказывался объяснить свое непонятное поведение.
Однако настойчивые дамы победили. И он рассказал, как внезапно перед ним предстало некое видение – тюрьма, позорная телега, потом эшафот со странным сооружением…
Он описал его. Впоследствии оказалось: он описал гильотину… за двадцать лет до ее изобретения!
Но не диковинное сооружение напугало Казота. Он увидел нечто более страшное – очередь людей, поднимавшихся на эшафот к гильотине, длиннейшую очередь, в ней были все самые блестящие фамилии Франции. И что самое ужасное – в ней были все присутствовавшие в тот вечер. И первым стоял он сам – Казот! Сверкал падающий топор гильотины, но очередь не уменьшалась, ибо все время к эшафоту подъезжала позорная телега и оттуда высаживались очередные жертвы…
После такого рассказа, естественно, воцарилось тягостное молчание. И тогда одна из дам попыталась пошутить:
– В вашем рассказе меня более всего пугает не эшафот, но позорная телега, любезнейший Казот. Оставьте мне, по крайней мере, право подъехать к вашему загадочному сооружению в собственном экипаже.
– Нет, – вдруг сказал Казот каким-то странным, чужим голосом. – Право ехать на казнь в экипаже получит только король. А мы с вами отправимся туда в позорной телеге.
Поразительно: пророчество Казота приводит в своей книге внук того, кто был в то время хозяином этой самой позорной телеги. Когда 26 сентября 1792 года Казота повезли на гильотину, этот человек был рядом с ним, и у него было время поговорить с Казотом о его пророчестве. И внук услышал от него рассказ о господине Казоте и его последних минутах: как спокойно, но «без наглой самоуверенности» взошел он на эшафот… Что ж, двадцать лет назад Казот все это уже пережил – так что он приготовился! И хозяин телеги оценил это по достоинству, как знаток смерти.
Это был он – Месье де Пари, палач города Парижа Шарль Анри Сансон.
Ради него я и приехал в Париж в те зимние дни 1996 года. Я приехал на свидание с ним, следуя уморительной привычке литераторов, – решил подышать, так сказать, «теми же воздусями» и насладиться лицезрением мест, где жил мой герой. И все представлял себе, как ровно сто лет назад на обратном пути из Версаля царская семья проехалась по Парижу – по древнему кварталу Маре с его старинными сонными отелями, где в Тампле в дни Революции томилась несчастная королевская семья. Затем на площади Республики их коляска сделала круг…
От площади Республики и идет та самая улица Шато д'О. Александра Федоровна была нервной женщиной, и она наверняка вздрогнула, когда проезжала мимо этой улицы! Ибо здесь, в глубине сада, возделанного его женой, стоял дом моего героя.
Дом Сансона. Палача Сансона. Сансона Великого. Каждый вечер я шел к тому месту, где когда-то стоял его дом. Я хорошо изучил все его жизнеописания – и подлинные, и ложные. Лучшая книга о нем принадлежит перу его внука. Но он писал ее, когда короли снова вернулись во Францию. Он жил в дни правления внуков тех, кого обезглавил его дед. И пришлось ему сочинять жизнеописание, в котором Сансон Великий выглядел добрым роялистом, нежно любившим короля, королеву и всех бесчисленных аристократов, которых он почему-то отправил к Господу с головами под мышкой… Но мы-то хорошо понимаем этих вчерашних революционеров, которым пришлось менять свои убеждения.
В Париже я часами стоял у его дома. Я старался увидеть, как выходил он на свою вечернюю прогулку, как редкие прохожие (это была тогда окраина Парижа), завидев его, торопливо переходили на другую сторону улицы…
А он шел. Один. Он тогда был молод, высок, красив.
Он привык разговаривать сам с собой. Ибо тогда он был презираем, и не было у него собеседников.
Сансон – палач города Парижа… Именно в те молодые годы он и начал вести Журнал, куда аккуратно записывал свой кровавый отчет. И я все представлял, как уже потом – старый, разбитый болезнью и страхом – пытался описать он свою жизнь. Жизнь, столь необыкновенную именно «в историческом отношении»…
И однажды, придя в гостиницу, я услышал голос. Слов не было – одно далекое, невнятное бормотание… Я бросился к крохотному гостиничному столу и начал торопливо писать. Голос тотчас пропал, но я не останавливался… Только впоследствии я понял: я переносил на бумагу чужие мысли. Его мысли. Я обнаружил их потом в «Записках палача», написанных его внуком.
Это были те же мысли, но… одновременно и другие! И тогда мне стало казаться – он сам говорил со мной.
Рассказ Cансона, исполнителя высших приговоров уголовного суда города Парижа
Вариации на тему «Записок палача»Я привык быть один. Я гуляю вместе с самим собой. Я и Я – мы шествуем вдвоем.
Я иду и думаю – как всегда, об одном и том же.
С тех пор как существует человечество – существует казнь. Сколько наказаний придумал зловредный человеческий род – и поручил Исполнителю. И все – с изощренными, изобретательными муками!
Возьмем самое легкое – бичевание. Вы думаете, просто секут? Нет, поусердствовали, выдумали – и поручили палачу волочить по городу несчастного, привязанного к телеге, а на каждой площади останавливаться и сечь! Сечь!
Но бичевание – это детские шалости по сравнению с клеймом, навсегда отлучающим человека от общества, с дыбой, ошейником и прочими пытками. Но разве палач их придумал? Люди придумали – и поручили палачу! И презирали его за это.
Венец нашей работы – смертная казнь. И опять: людям мало убить – им надо еще мучить, мучить, мучить!
Смерть на кресте – самое древнее из мучений казни. Но распятие было отменено римским императором Константином, ибо стало предметом поклонения христиан. Ничего, сколько новых казней придумали – и куда страшнее!
Колесование! После каждого колесования я, привыкший к ужасам палач, не в себе – мне все мерещится, все снится, как я раскладываю человеческое тело на колесе, ломаю суставы, залезаю в рот, отрезаю язык… Нет ни одной частички тела, которую при колесовании не «ласкает» палач! Но и это еще не самый худший вид смерти. Люди придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол… О, изобретательное человечество!
А эти тысячные толпы, приходящие глазеть на мучения… Им интересно! Складывается костер из дров и соломы, на него возводят осужденного, привязывают к столбу… Он будет долго мучиться, сгорая живьем, а толпа – смотреть, как корчится в огне несчастная жертва. Иногда мне кажется, что самые гуманные люди – это палачи. Во всяком случае, мы, палачи, придумали милосердную хитрость: при сожжении на костре мы ставим багор с острым концом для перемешивания соломы точнехонько против сердца осужденного, чтобы он мог лишиться жизни до мучений от огня…
Кого мы только не сжигали на кострах: еврея – потому что он не христианин; христианина – потому что он протестант; католика – потому что он стал атеистом… Люди приказывали – и мы сжигали! И они же нас за это презирают.
Почему же люди так презирают того, кого они же выбрали быть Исполнителем? Точнее – презирают и боятся… Боятся? Еще бы! При встрече со мной каждый невольно представляет себя в объятьях палача.
В заключение назову две самых простеньких казни – на виселице (для простолюдинов) и от меча (для дворян). Даже здесь, на последнем пути, – нет равенства.
Впрочем, Великая Революция отменила все эти многообразные ужасы и всех уравняла в смерти. Был принят закон: с 1790 года казнь для всех граждан стала единой – гильотина.
О том, что вышло из этого «облегчения», вы вскоре узнаете из моего рассказа.
Во Франции должность палачей – наследственная, передается от отца к сыну. Неважно, сколько тебе лет, когда умирает твой отец. С этого мгновенья ты – палач!
В нашем доме была комната, где висели мечи (каждый имел свою историю). Как справедливо заметил один из нас, свою профессию и свои мечи палачей – как скипетр королей – передавали мы, Сансоны, из рук в руки, от отца к сыну. А если после тебя не осталось сына, пусть приготовится муж твоей дочери – быть ему палачом!
Именно так стал палачом мой прадед Шарль Сансон – Сансон Первый.
Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Шарль Сансон родился в 1635 году. Вот он-то и женился на дочери палача города Руана. То ли это была безумная страсть, то ли попросту выгода: поговаривали, что Шарль впал тогда в большую бедность, а палачи очень неплохо зарабатывали…
Но уже вскоре тесть стал требовать от Шарля помощи на эшафоте.
В судебных актах города записана такая история: «Когда руанский палач потребовал от своего зятя нанести железным шестом удар преступнику, зять упал в обморок, и это сопровождалось хохотом толпы».
Но уже вскоре Шарль Сансон не только привык к казням – он преуспел в них. О его ударах мечом гремела такая слава, что после Смерти жены ему тотчас предложили уехать из Руана и стать палачом Парижа. Он переехал туда и поселился в месте, которое народ звал «Дворцом палача». Это было мрачное восьмиугольное строение с башенкой, около которой привязывали приговоренных к позорному столбу. Рядом шумел парижский рынок – там прадед брал припасы и товары. Таков был закон: палач мог взять с рынка столько, сколько мог унести в руках. Но он уносил слишком много, и однажды толпа торговцев подожгла его дом. Тогда мой предок и решил переехать в пустынный квартал, называвшийся Новой Францией, – теперь это часть Пуассоньерского предместья.
Ему было за шестьдесят, когда он женился на молодой женщине – разумеется, тоже родственнице палача. И в 1703 году, в самом начале века, который сделает наше имя воистину знаменитым, Шарль Сансон передал свою кровавую должность моему деду, ибо «душа почтенного старца осветилась нежными утехами любви». Он захотел отдохнуть от крови.
Я не смогу перечислить всех, кого покарал меч моего деда – Сансона Второго, ибо он, к сожалению, весьма неаккуратно вел Журнал казней. Отмечу, пожалуй, только Картуша. Это был великий грабитель, о подвигах которого народ до сих пор слагает легенды. (Дед колесовал его в 1721 году на Гревской площади.)
Тогда было много грабежей, целые банды нищих разбойничали на дорогах Франции… Людовик XIV умер, оставив страну в состоянии печали и крайнего разорения. Правил пятилетний король, вернее, его регент – герцог Орлеанский, провозгласивший очаровательный закон: «Запрещено все, что мешает наслаждению».
И действительно, после мрачного аскетизма последних дней Людовика XIV двором овладело безумие удовольствий. Сам бедный регент попросту сгнил от дурных болезней – этими «дорогими наградами, полученными от самых разнообразных прелестниц», «доблестными ранами, заработанными на поле самого восхитительного из сражений» герцог поистине гордился.
В то время топор палача часто бездействовал, и жертвы были малопримечательны – в основном все те же грабители, доведенные нищетой до преступлений.
Сансон Второй умер в 1726 году, сорока пяти лет отроду. Он оставил двух сыновей – Жана и Николя. И несмотря на возраст, старший из них, семилетний Жан, был тотчас посвящен в звание палача. А на время его малолетства обязанности палача были возложены на некоего месье Гаррисона. Он-то и заставлял несчастного ребенка присутствовать при казнях на Гревской площади, ибо без Исполнителя казнь незаконна и является попросту убийством. И маленькая кукла – мой будущий отец – стояла на кровавом эшафоте и смотрела, как рубили головы…
Я думаю, именно тогда нестерпимый ужас поселился в детском сердце – оттого Жан Сансон так недолго орудовал на эшафоте. Отца разбил паралич, когда мне было только семнадцать лет.
Я уже упоминал о комнатке в нашем доме, где в полумраке на стенах висели мечи – наши родовые мечи палачей – выбирай любой! С детства я любил приходить туда. В колеблющемся пламени свечи сверкали лезвия… На всех этих великолепных широких клинках с удобными рукоятками кованого железа было вырезано одно слово – ПРАВОСУДИЕ.
Я много слышал от матери о своих предках – как они страдали от человеческого презрения, как таились от людей, как редко выходили из дому, стесняясь взглядов прохожих… Ничего этого во мне не было – я с детства ощущал себя палачом и с гордостью готовился к этой роли. Я презирал людское презрение.
Когда я взошел на эшафот в первый раз, отец рубил голову знатному дворянину. Помню, как тот ослаб и как отец ободрял его – когда-то гордого вельможу. Мне понравилось… И когда отец, побежденный болезнью, более не мог действовать мечом – меч оказался в надежных руках. Может быть, впервые в нашем роду за него взялся тот, кто хотел быть палачом.
Однако больной отец прожил еще два десятилетия. Все это время я без него орудовал на эшафоте, но… отец был жив, и потому он по-прежнему считался палачом города Парижа. С трудом шевеля ногами, тяжело дыша, он поднимался на эшафот и стоял в стороне – наблюдал за моей работой… Исполнителем я был утвержден только после смерти отца в августе 1778 года.
Между тем работы становилось больше – король старел, характер у него портился… И все чаще мне приходилось встречаться на эшафоте со знаменитостями. Вся Франция следила за моим топором, когда четвертовали беднягу Дамьена, покусившегося на жизнь самого короля.
Это случилось холодной ночью: король направлялся к карете, дрожа в своем модном рединготе (он был великий модник, наш Луи XV). Он уже было поставил ногу на под ножку, когда этот Дамьен – самый что ни на есть простолюдин, чей-то слуга – проскользнул мимо гвардейцев к королю и нанес удар кинжалом. По воле Всевышнего лезвие прошло между ребрами и не задело ни одного драгоценного органа короля.
Дамьена схватили, и я его четвертовал… Как мучился этот несчастный, когда мы с помощниками рвали его тело клещами, когда раздирали его плоть на части мчавшиеся в разные стороны лошади… На эшафоте со мной был дядя Николя – палач дворцового ведомства. Но всей длинной и ужасной казнью руководил я, и выдержал, а вот несчастный дядя сразу отказался и от должности Исполнителя приговоров дворцового ведомства, и от довольно большого дохода – 24 000 ливров в год. Так я стал единственным палачом города Парижа.
Впоследствии, в дни Революции, я вспоминал этого Дамьена, вернее, его странное послание королю. Вот оно:
«Я глубоко скорблю, что имел несчастье к Вам приблизиться и смел причинить Вам боль… Но если Вы, Ваше Величество, не перейдете на сторону Вашего народа, то в самое короткое время, может быть через несколько лет. Вы сами, и дофин, и еще некоторые лица неизбежно должны будете погибнуть».
Королю эти слова, конечно же, показались безумием. Но уже его сыну они покажутся пророчеством.
Именно тогда, после смерти Дамьена, мне попался на глаза Журнал отца, в котором он записывал имена жертв и подробности казней. Оказалось, все мои предки заполняли Журнал – правда, бегло и плохо. Я решил продолжить сей кровавый реестр, но куда аккуратнее и подробнее – будто предчувствовал, со сколькими замечательными людьми мне доведется встретиться… увы, на эшафоте!
Между тем отец мой хирел на глазах. Но у него были мы – семеро сыновей, унаследовавших его ремесло. Теперь Сансоны рубили головы в Реймсе, Орлеане, Суассоне, Монпелье, Дижоне… И когда мы сходились у отцовского стола, слуги почтительно называли нас по местам службы – Месье де Реймс, Месье д'Орлеан, Месье де Дижон…
Эти домашние прозвища вскоре стали официальными. Так я стал называться Месье де Пари.
Никто никогда не смел говорить в доме о крови, об эшафоте.
Наши беседы с братьями за столом были самыми светскими, самыми возвышенными – о пьесах месье Мольера, о чудачествах месье Вольтера, о музыке месье Рамо… Кстати, все мои братья-палачи (впрочем, палачами мы никогда себя не называли, только официально – Исполнителями) обожали музыку и превосходно играли на самых разнообразных инструментах. Я, Месье де Реймс, Месье д'Орлеан и Месье де Дижон составляли превосходный квартет.
Но если все-таки приходилось говорить о казни, мы называли ее «делом». Допустим: «Мне придется завтра встать пораньше – у меня дело».
И все! И баста!
Кроме братьев, редко кто посещал наш дом. Да что я говорю – «посещал»! Люди старательно мыли руки, если случайно здоровались с нами. Аббат Гомар был одним из немногих, которые тогда решались приходить к нам. Этот францисканец часто стоял на эшафоте вместе с Исполнителем – помогал несчастным осужденным встретить последний час.
Палач направлял их к Всевышнему, священник – напутствовал.
За столом после рюмки хорошего вина отец Гомар бывал весьма словоохотлив. И однажды я узнал, что у него есть племянница – Жанна де Вобернье, существо очаровательное, но совершенно погрязшее в пороке. По словам аббата, Жанну сгубила ее замечательная красота: «Как жаворонка заманивают в клетку блеском зеркала, так одна проклятая куртизанка заманила мою пташку прелестями легкой жизни и посеяла в ней семена порока, каковые теперь дали такие пышные всходы!»
Порок меня тогда не особенно отпугивал, а красота привлекала. Я выведал у аббата, где живет сия порочная красавица, и, убедив себя (для облегчения души), что я должен вернуть ее на стезю добродетели, стал караулить у ее дома.
Это очень длинный рассказ – как я сумел очутиться в ее доме, как предстал перед нею (естественно, назвавшись иным именем), как увидел эти лазоревые глаза, эти коралловые губки и неправдоподобно роскошную копну белокурых волос…
Жанна полулежала на красном диванчике. Я пал к ее ногам…
Что было потом – я унесу с собой в могилу.
Впоследствии моя красавица Жанна, столь щедрая на любовь, пленила стареющего короля. Да, это была она – та, которая сделалась всевластной графиней Дюбарри. Она правила и сердцем короля, и Францией…
Но это потом… А тогда, во время наших встреч, она любила вспоминать, что родилась в Вокулере – в той самой деревушке, где родилась другая Жанна – Жанна д'Арк.
Она уже тогда была уверена в своем предназначении и говорила мне, что у нее будет что-то общее с судьбой той, великой Жанны. Что ж, она не ошиблась – они обе приняли нелегкую смерть.
Еще я помню, как однажды, уговаривая ее о свидании, я сказал жалкую фразу безнадежно влюбленного:
– Не прогоняйте меня, я могу вам еще пригодиться!
И я тоже не ошибся! Я пригодился ей – через двадцать лет на эшафоте.
Все эти годы я ее не видел, но имя Дюбарри было у всех на устах. Перед самой Революцией о ней много говорили в связи с «Делом об ожерелье королевы». (Впрочем, и мне пришлось сыграть печальную роль в этом деле.)
Госпожа де ла Мотт, питомица незаконного сына Генриха II, вышла замуж за бедного королевского телохранителя. Нужду она, в чьих жилах текла кровь древней королевской династии Валуа, сочла для себя незаслуженной участью. И придумала, как обогатиться.
Она узнала, что у парижских ювелиров находится необычайно дорогое ожерелье, которое покойный король предназначал для Дюбарри, но не успел выкупить. После его смерти казна была столь разорена, что королевской чете пришлось отказаться от ожерелья (хотя Мария Антуанетта была от него в восторге). Де ла Мотт придумала великолепную интригу…
Кардинал де Роган мечтал о красавице королеве. И де ла Мотт устроила ему встречу с ней, и королева попросила его купить для нее ожерелье. (На самом деле роль королевы сыграла некая девица Олива, необычайно на нее похожая.)
Кардинал согласился, и муж де ла Мотт уехал с этим баснословным ожерельем в Англию. Но все разъяснилось, мошенницу де ла Мотт схватили и приговорили к клеймению и розгам. Так наступил мой выход в этом спектакле.