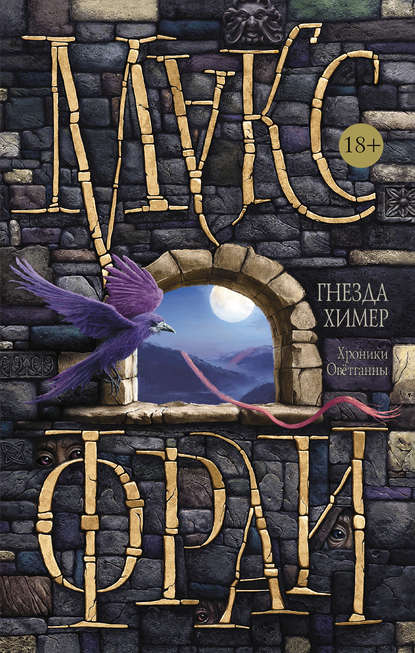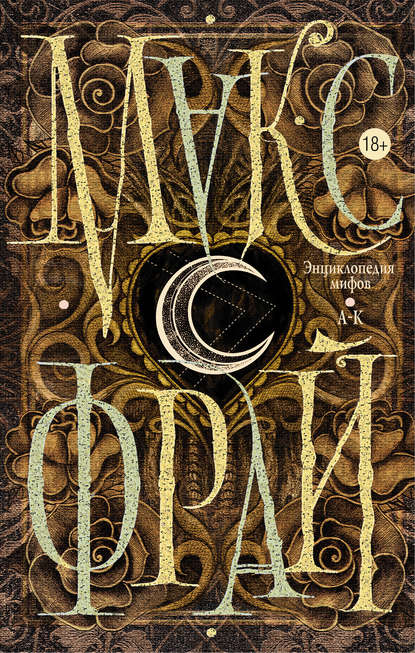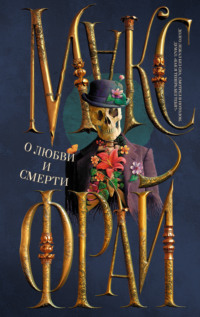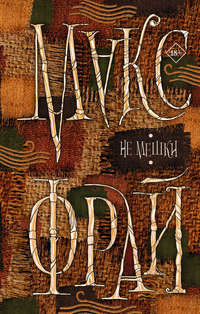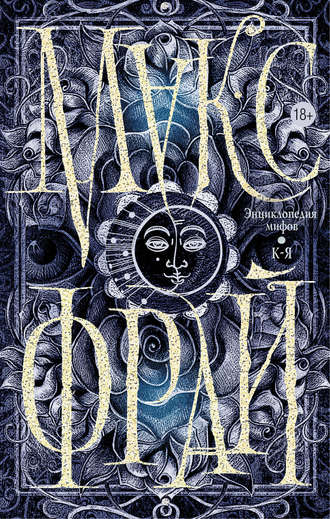
Полная версия
Энциклопедия мифов. К-Я

Макс Фрай
Энциклопедия мифов. К-Я
Книга публикуется в авторской редакции
© Макс Фрай, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *К
1. Круг
…фигура, образуемая правильной кривой линией, без начала и конца…
Некоторые вещи вспомнить почти невозможно. Но обычно оказывается, что только они и имеют значение.
Поэтому.
Я.
Вспоминаю.
Бесцеремонное, в сущности, вторжение. Их было двое. Мужчина и женщина, очень молодые. Их лица я так толком и не разглядел. Только два силуэта, просторные свитера, яркие шарфы, длинные белокурые волосы женщины и прядь, упавшую на лоб ее спутника, темную и тяжелую, как мокрые водоросли. Ноги, обутые в спортивные ботинки, ступали почти бесшумно, но деревянная лестница тихонько поскрипывала под упругими подошвами. Мне почему-то был знаком ритм их шагов – открытие казалось скорее тревожным, чем радостным, хотя ни радости, ни тревоги я тогда еще не умел испытывать. Лишь расставлять по местам наиболее подходящие определения – это всегда пожалуйста.
Тогда же я обнаружил, что звуки шагов в темноте могут рассказать об идущем куда больше, чем разноцветные картонки, разложенные в определенном порядке смуглой рукой ярмарочной предсказательницы. Впрочем, я оказался молчаливым оракулом: мои откровения годились лишь для удовлетворения собственного любопытства; искусство издавать звуки казалось мне слишком хитроумной наукой, за изучение коей и браться-то не стоит, все равно ничего не выйдет.
Мужчина был рожден в год Огня, женщина – в год Дерева, и сама судьба предназначила ей стать хворостом в его костре, поэтому его пламя пылало на самом дне сердца, а ее легкий огонь плясал на поверхности кожи, обжигая, но не согревая. Глаза же их, как у всех, кто находится под покровительством Нептуна (сумма чисел рождения кратна девятке), казались изменчивыми и глубокими, как морская вода. Эта зыбкая влага не давала их огню разгореться в полную силу, поэтому они походили на людей, собравшихся жить вечно.
Они имели странную власть над событиями, но не умели повернуть ее себе на пользу, ибо само понятие пользы не укладывалось в их головах. Поэтому они играли с миром, как младенцы с набором цветных кубиков: всякая конструкция, причудливая ли, уродливая ли, возникала лишь для того, чтобы тут же быть разрушенной неловким движением могущественной, но неумелой руки; руинам же было суждено чудесное превращение в волшебный лабиринт, впрочем, и это случалось лишь на краткое мгновение.
Кажется, я тоже был одним из их кубиков.
«Добрый вечер, Макс!» – говорили они и хохотали, как подвыпившие школьники, но смех не звенел, а потрескивал: так трещат отсыревшие поленья в камине. Я недоумевал: что забавного может быть в столь обыденной фразе? «Хорошей тебе ночи, Макс», – их голоса звучали доброжелательно, но снисходительно, словно я был симпатичной дворнягой или ручным скворцом.
Я не давал себе труда удивиться, откуда они знают мое имя, поскольку эти двое были похожи на тех счастливчиков, что легко угадывают заветное число, но вечно забывают поставить на него деньги. Перед тем как уйти, они непременно включали старомодную лампу под зеленым абажуром, которая стояла на маленьком столике возле моего кресла, и ее тусклый леденцовый свет казался мне слишком ярким, так что поневоле приходилось просыпаться.
«Круг разомкнулся», – думал я, пробуждаясь. Впрочем, нет, недумал, фраза эта, изящная, но вполне бессмысленная (что за «круг»? с какой стати он «разомкнулся»? и был ли «сомкнут» прежде?), ритмично пульсировала в висках, как пульсирует кровь в жилах живых людей. «Круг разомкнулся», – странное словосочетание постепенно наполняло меня, становилось фундаментом будущей телесности. Слова оказались достаточно густыми, чтобы заполнить пустоту, из которой я был соткан прежде; комариный зуд их звучания не давал мне погрузиться в безмятежное забытье. Я невольно начинал прислушиваться к шорохам мира, которые по капле просачивались теперь в хрустальный дворец моего совершенного одиночества, одиночества-без-себя, потому что… круг действительно разомкнулся.
Это было.
Это было так странно!
2. Кур
В шумеро-аккадской мифологии одно из названий подземного мира ‹…› вторичное название – кур-ну-ги («страна без возврата»). О положении и местонахождении Кур четкого представления нет. ‹…› В него не только спускаются и поднимаются, но и проваливаются.
…Сначала я просто наслаждался звучанием голосов: приглушенных расстоянием, пока женщины сидели на веранде; четких, когда они собирались к чаю в просторной парадной столовой; бесстыдно звонких, если они окликали друг друга в холле. Я сам не заметил, в какой момент начал внимательно прислушиваться к голосам, но это случилось, и смысл слов постепенно становился мне понятен – поразительное ощущение! До сих пор речь постоянно сменяющихся обитателей трехэтажной виллы, пленником (или хозяином?) которой я то ли стал совсем недавно, то ли был всегда, казалась мне птичьим щебетом, пронзительным, сладкозвучным и напрочь лишенным смысла. Голоса убаюкивали меня, как шум реки. Так перестаешь понимать человеческую речь за несколько мгновений перед тем, как погрузиться в глубокий сон, когда невидимый шейкер перемешивает обе реальности и ты – уже? еще? – не можешь отделить сон от яви (или все-таки одно сновидение от другого?).
– Я недавно перечитывала Сэлинджера…
Дружный смех, тихий, как шорох прошлогодних листьев в саду за распахнутым окном.
– И после этого ты будешь говорить, что тебе здесь совсем не скучно?
– Пока ничего страшного, девочки. Но вот если Лиза возьмется за Достоевского, тогда да, тогда ее пора эвакуировать!
– В Мюнхен.
– Не поможет. Лучше уж в Амстердам.
– Ага, она там как следует курнет, вспомнит студенческие годы…
– И в таком состоянии снова усядется читать Сэлинджера. Так что бесполезно. Тебе уже ничего не поможет, ты слышишь, бедняга?
– Но я люблю читать перед сном, и, собственно говоря, почему бы не перечитать Сэлинджера, если уж он есть в здешней библиотеке? Не сбивайте меня, ладно? Я хотела сказать вот что. Я его лет пять не открывала, а сейчас вдруг обратила внимание… В ранних рассказах несколько раз возникает Холден Колфилд. То есть о нем там мельком упоминают. В одном рассказе сорок четвертого года появляется его старший брат, тоже Колфилд, только Винсент, и между делом вспоминает Холдена… А потом в рассказе, который был написан в сорок пятом году, главный герой – все тот же Винсент. Так вот, к этому моменту он уже знает, что его братишка Холден пропал без вести… Да, а потом, уже в пятьдесят первом году, вдруг появляется знаменитый роман «Над пропастью во ржи», где этот самый пропавший без вести Холден Колфилд – главный герой. Вы понимаете?
– Ну и что? Лиза, деточка, так часто бывает. Многие писатели влюбляются в своих героев, иногда они не могут расстаться с ними всю жизнь, таскают из рассказа в рассказ или из романа в роман, и путаница их не смущает…
– Я знаю, что часто. Но тут не то. Во всяком случае, я не это хотела сказать. Тут совсем другое… – Она смущенно умолкает, а потом говорит так тихо, что я скорее угадываю, чем слышу ее слова: – Неужели не понятно,куда он пропал без вести, этот мальчик?
– Ах, вот ты о чем…
– Хочешь сказать, он пропал без вести – из одной книги в другую?
– Ну да. Из одной книги в другую, из одной жизни в другую… На новой картинке есть небольшие отличия, не знаю, наберется ли десять…
Женщины не смеются, но я чувствую, как они улыбаются. Лиза продолжает:
– В новой книге у него другой старший брат. Не писатель Винсент, который погибнет в сорок пятом во Франции, а некий Д. Б., он сценарист в Голливуде, и у него там все о’кей, а ведь Винсент, который появлялся в рассказах, не любил ни Голливуд, ни вообще кино как таковое, он об этом не раз говорил, я еще обратила внимание…
– Деточка, ты зря стараешься. Литературный критик из тебя все равно не получится, ты слишком искренне любишь книги. Материал, с которым работаешь, нельзя любить: в этом случае он не поддается анализу. Выскальзывает из-под скальпеля да еще и верещит, как умирающий заяц.
– А разве умирающие зайцы?..
– Да, они верещат. Очень страшно кричат, как маленькие дети. Я не знаю, как люди решаются их убивать…
– Вот уж за что следует ввести смертную казнь: за охоту на зайцев. Повсеместно. Это единственное преступление, которому нет оправдания.
– Подождите со своими зайцами, не сбивайте меня. Я не о том. При чем тут критика какая-то? Конечно, я не собираюсь что-то там всерьез исследовать. Тут другое. Когда я поняла,куда пропал без вести Холден Колфилд, я подумала: а может быть, мы тоже пропали без вести? В другую книгу… в другую жизнь. Мы сами ничего не заметили, а наши родственники и друзья где-то там, в прежней жизни, бьют тревогу, но мы никогда не узнаем об этом, потому что здесь есть телефон, и всегда можно позвонить домой, и тебе ответит знакомый голос… почти как настоящий.
– Боже мой! – звенит в напряженной тишине хорошо поставленный голос Алисы. – Ты права, детка. Я всегда подозревала, что однажды проснусь не там, где мне положено, – просто по рассеянности!
– А ведь действительно все стало… как-то не так, правда? С тех пор, как мы здесь. Слишком хорошо. И от этого тревожно, как перед грозой или как будто все время полнолуние. Разве нет? Юста, ты каждый день ездишь в Мюнхен. Как он тебе? Настоящий?
– Мюнхен всегда ненастоящий. Это не показатель. Единственный город, в котором невозможно положиться на карту, только на удачу… и еще на таксистов. Каждый мюнхенский таксист очень четко знает, в каком измерении находится место, в которое тебе требуется попасть, и это их неоспоримое достоинство… Вообще-то я не очень верю, что мыуже пропали без вести. Но, по-моему, мы вполне можем пропасть. У нас есть шанс затеряться где-нибудь в коридорах. Меня не покидает ощущение, что с этой веранды можно исчезнуть в любой момент. Поэтому здесь так тревожно… и так хорошо.
– Ну вот, спать я сегодня ночью не буду. Вы меня напугали.
– И правильно. Утром поспишь. А ночью надо смотреть на звезды. Их здесь, по-моему, раза в три больше, чем положено…
– Ага. И перед отъездом нас заставят оплатить дополнительные звезды, поштучно, по списку. Как счета за телефон.
– Хм… Могли бы заранее сообщить расценки, я бы еще подумала. Я девушка экономная…
– Ничего, сэкономишь на телефонных звонках. А звезды пусть остаются.
– Ну ладно, уговорили. Хотя… Разве дело в количестве?
– Иногда – да.
Я слушаю их болтовню, и у меня кружится голова. «Пропасть без вести», это надо же! Знали бы они, сколь опасно близки к правильному решению задачи.
О, я уверен, они ничего не знают об этом доме, ничегошеньки (по крайней мере, пока), но их чутье – это нечто! Я и сам наверняка «пропал без вести», переступив порог этого гостеприимного дома. Иногда мне кажется, что я помню, откуда именно я «пропал», а иногда я понимаю, что ни черта не помню, кроме своих бесконечных путаных снов.
Я, знаете ли, просто местный призрак. Впрочем, я не доставляю окружающим никакого беспокойства: у меня нет нелепой потребности завывать во тьме безлунной ночи или, к примеру, драматически греметь цепями. У меня и цепей-то никаких нет. Я просто сижу в кресле, обитом потертым красным плюшем. Увидеть меня, кажется, совершенно невозможно. Но в красное кресло никто никогда не садится: что-то удерживает обитателей этого дома, даже самых непрошибаемых, от попыток занять мое место.
Во всяком случае, именно так обстояли дела, пока на вилле Вальдефокс не появились эти женщины. Про себя я сразу окрестил их «иствикскими ведьмами», благо, то ли в прошлом (которого у меня, возможно, не было), то ли в одном из тягучих снов, заменяющих мне воспоминания, я с удовольствием читал одноименный роман во время поездок в метро[1].
Прозвище моим новым знакомым не слишком подходило: книжные-то «иствикские ведьмы», помнится, произвели на меня почти отталкивающее впечатление, а тут такие милые дамы. И все же несколько дней я почти беспричинно отождествлял временных обитательниц виллы с героинями Апдайка: призрак (как всякое одинокое существо) хватается за любой повод блеснуть нечаянной эрудицией[2].
Что касается самой виллы Вальдефокс, расположенной в получасе неторопливой езды от Мюнхена, официально она считается собственностью городского магистрата. Впрочем, подозреваю, что здешний смотритель, седой баварец по имени Франк, флегматичный и невозмутимый, как породистый сенбернар, в глубине души полагает виллу своей личной собственностью. Я же совершенно точно знаю, что этот трехэтажный дом с большой верандой и изящной башенкой наверху, окруженный запущенным старым садом, принадлежит мне – или я принадлежу ему, какая, к черту, разница?! Обладание всегда взаимно, и собственность – палка о двух концах, как, впрочем, и рабство…
Но наивные кругло-красно-озабоченно-лицые господа из мюнхенского магистрата даже не подозревают о наших с Франком собственнических амбициях. Франк Хоффмайстер – наемный работник, для которого возможность проживать в маленьком домике у ограды виллы является одновременно и привилегией и обязанностью, оговоренной в контракте, так что с ним все ясно. Что касается меня, вряд ли эти господа способны поверить в мое существование даже после пятнадцатой кружки пива, так что со мной тоже все ясно – в каком-то смысле…
Богатая бездетная дама, которая завещала городу свое владение где-то в середине шестидесятых годов почти истаявшего уже столетия, прятала природную мечтательность под неулыбчивой маской из собственной кожи, нежной и сухой, как крылья бабочки. Она справедливо полагала, что скука – вполне приемлемая плата за благополучие, и больше всего на свете любила засыпать и просыпаться (но не спать и не бодрствовать). Она читала книги, открывая их на середине, откуда ее близорукий левый глаз мог путешествовать в начало наперекор логике и смыслу, а дальнозоркий правый – проторенным путем, к финалу. Состарившись, она вдруг поняла, что боится не смерти, а забвения, и пожелала, чтобы под крышей ее дома собирались писатели, художники и прочие занимательные персонажи – после того, как он опустеет, разумеется.
Соотечественники всегда казались ей слишком пресными, поэтому она особо оговорила, что гости должны приезжать из разных стран мира. Возвышенное, но убогое воображение подсказывало старой даме, что по вечерам эти удивительные существа (как всякому образованному, но далекому от искусства человеку грядущие гости казались ей немного нелепыми, вдохновенными ангелами) будут встречаться на веранде и беседовать о культуре. Она также надеялась, что благодарные обитатели виллы согласятся извлекать порой из забвения имя ее мертвой хозяйки, хотя бы для того, чтобы удивленно спрашивать друг друга: «Почему, почему же ей взбрело в голову сделать нам столь щедрый подарок?!»
Примерно так и случилось, благо воля завещателя – закон. Вилла Вальдефокс дает временный приют творческим личностям, которые по тем или иным причинам удостоились внимания чиновников из отдела культуры при городском магистрате. Вилла разделена на восемь небольших, но уютных квартирок; следовательно, жильцов в доме обычно тоже восемь: стипендиатам всегда вежливо, но настойчиво рекомендуют воздержаться от поездки в сопровождении членов семьи. Таково пожелание прежней владелицы. Возможно, старая дама была очень мудрой женщиной и считала одиночество великим сокровищем, на поиски которого почти никто не отправляется по доброй воле, а может быть (увы, это больше похоже на правду), она, как многие старые девы, испытывала смутное отвращение к чужому семейному счастью…
3. Кхун Болом
…Чтобы предохранить небеса от докучливости людей, он перерезал мост из ротана, соединявший небо с землей.
Вилла Вальдефокс – своего рода «райский сад», приспособленный к нуждам одухотворенных курортников; усовершенствованный небозаменитель для тех, кого утомила сила земного притяжения. Но воспользоваться этой благодатью можно лишь ненадолго. Плата за вход – грядущее изгнание, с коим большинству стипендиатов бывает нелегко примириться.
Сюда приезжают на месяц, два, максимум – три, не больше. Потом новые жильцы сменяют прежних, и только мы с Франком (иногда я начинаю опасаться, что старик вполне способен разглядеть в темноте мои неопределенные контуры, а порой мне кажется, что он еще менее реален, чем я сам) остаемся в этом доме. По большому счету, нам обоим просто некуда больше деться: земля нас не носит, а мост, соединяющий землю и небо, разобран на хрустальные кирпичики (те, в свою очередь, истолчены в ступе, сверкающий порошок развеян по ветру, а ветер давно уже утих). Нас с Франком эта невеселая новость тоже касается, так-то.
4. Кшитигарбха
В Индии Кшитигарбха изображается сидящим, его правая рука касается земли, а левая держит лотос вместе с древом желаний.
В ту зиму господа из магистрата вдруг решили возвести экономию в добродетель, и после Рождества количество стипендиатов сократилось чуть ли не втрое. Я был им благодарен: пока не станешь призраком, не поймешь, что главный недостаток живых людей – их количество.
Не то чтобы прежние жильцы виллы мне действительно мешали, но в первые дни января я вдруг почувствовал себя – как бы это сказать поточнее? – почти живым. Сны еще не покинули меня, но их разноцветный туман все чаще рассеивался. Иногда мне казалось: еще немного и я смогу покинуть свое уютное кресло. А что, отправлюсь бродить по окрестностям, пугать осмелевших белок, сверять собственные грезы с наличной действительностью. Обманчивые воспоминания об узорчатых лакированных листьях вечнозеленых кустарников, ветхих туманностях прошлогодней травы и влажном гравии узких тропинок, оплетающих холм, преследовали меня столь же неотвязно, как и смутные надежды на грядущее путешествие по саду.
Я стал томиться. Память – неужели именнопамять?! – подсказывала, что это ощущение сродни жажде; мне понадобилось немало времени, чтобы понять: я не просто предполагаю возможность прогулки, а хочу, чтобы она состоялась.
«Я хочу» – до сих пор словосочетание сие было мне без надобности; дело ограничивалось общим, поверхностным, приблизительным представлением о его смысле. Теперь я на собственном опыте узнал, что такое желание: душевный зуд, телесная смута, бесславное бегство ума из «здесь-и-сейчас» в воображаемое будущее. Морок.
Сладостный, впрочем, морок.
5. Кырк Кыз
В мифологии каракалпаков Кырк Кыз – девы-воительницы ‹…›. Они живут на острове общиной…
В довершение ко всему, я вдруг обнаружил, что обитательницы виллы мне чрезвычайно нравятся. Впрочем, «нравятся» – не совсем удачное слово. Симпатия, которую я испытывал к трем женщинам, чьи звонкие голоса то и дело извлекали меня из-под тяжкой, удушливой перины грез, была сродни детской влюбленности, самой поэтической разновидности этого чувства, не обремененной ни желаниями, ни надеждами, ни планами на будущее.
Я любовался ими, томимый той же бескорыстной сладкой тоской, какую испытывали они сами, когда замирали на веранде, завороженно вглядываясь в призрачные очертания гор на горизонте, и стакан с ненужным больше коктейлем выскальзывал из пальцев. Печальная трель, рождавшаяся в момент соприкосновения тонкого стекла с каменным полом веранды, болезненно отзывалась в моем сердце и кружила голову почище, чем колокольный перезвон в воскресное утро. (Господи, сколько стаканов разбили эти зачарованные принцессы всего за две недели!)
Их было три. Эти женщины отличались друг от друга столь разительно, что избитая метафора «как день и ночь» кажется мне совершенно неуместной. К черту времена суток! Они разнились, как сталактиты, созревающие в темноте подземелий, и северное сияние, которого я никогда не видел; как краткий отчаянный крик испуганного ребенка и медленное погружение в воду горячего источника, бьющего среди иссиня-черных лавовых полей на острове Исландия; как холод рыбьей чешуи и сладкий вкус рассыпчатого свежеиспеченного кекса, как…
Стоп, заигрался.
Одним словом, женщины были разными – настолько, что иногда я сомневался, что они принадлежат к одному биологическому виду.
6. Кэшот
Наиболее часто воплощается в образе слона или огненного пламени.
Самую юную обитательницу виллы звали Лизой. Ей было лет двадцать пять, не больше. Маленькая толстушка, широкобедрая, как изображения ассирийских богинь. Но ее полнота не покоилась на приторно-прочном фундаменте, сложенном из ленивой ненависти к окружающему миру и пристрастия к пирожным, а посему казалась совершенно естественным, неоспоримым достоинством. Лиза была до краев переполнена жизнерадостной внутренней силой, избыток которой требовал вместительного сосуда, поэтому природе поневоле пришлось создать ее толстушкой. Шаровая молния, сгусток тепла, солнечный зайчик с коротко стриженой круглой головой и большими миндалевидными глазами цвета молочного шоколада. В тот день, когда она поселилась на вилле, ртутный столбик уличного термометра резко рванул вверх. До Рождества он преданно облизывал нулевую отметку, но теперь у нас установилось стабильное «плюс 10» – уж я-то отлично знал, кого должны благодарить обитатели близлежащего городка Шёнефинга за столь ранний приход весны!
Лиза с удовольствием прислушивалась к щебету птиц и изливала свою восторженную любовь на соседских собак, коров, лошадей и прочую домашнюю живность; она пришла в отчаяние, когда от домашних гусей смотрителя Франка осталась неопрятная кучка костей и перьев. «Фукс из леса пришел, обедал, тут зимой всегда много лисиц, которые ищут свой ленч», – старательно коверкая английские слова, объяснял ей старик. (Франк почему-то никогда не говорит с постояльцами по-немецки; даже с теми, кто отлично владеет его родным языком, он предпочитает изъясняться на жуткой смеси всех мыслимых и немыслимых наречий, а в качестве масла, которым он щедро смазывает свои причудливые монологи, используется до неузнаваемости изуродованный английский.) Лиза не пожалела слез, чтобы оплакать грузных серых птиц; она не стала вспоминать, что при жизни покойные обладали убогим авторитарным разумом и склочным характером. На долю каждого погибшего гуся досталось по несколько дюжин теплых слезинок. Но ее взгляд всегда равнодушно скользил по мерцающей чешуе аквариумных рыб; она брезгливо косилась на лягушек и боялась змей: существа с холодной кровью казались ей чужими и, возможно, враждебными.
Лиза была писательницей из Лиссабона, начинающей, но, очевидно, успешной. Из бесконечных разговоров, которые не стихали по вечерам на веранде, я узнал, что стипендию мюнхенского магистрата для Лизы выхлопотал ее немецкий издатель. Чего я никак не мог себе представить, так это Лизу, часами неподвижно сидящую над клавиатурой. Она и за завтраком-то никак не могла дождаться окончания трапезы: забирала свою чашку с остывающим кофе и отправлялась в сад или убегала в свою комнату на последнем этаже, чтобы через две минуты вернуться назад, сообщить какую-нибудь пустяковую новость своим чинно жующим подругам и снова исчезнуть; ступеньки деревянной лестницы, привыкшей к степенным пожилым жильцам, каковых здесь до сих пор было подавляющее большинство, сварливо скрипели под ее крепкими резвыми ножками.
Но факт остается фактом: это непоседливое, как трехлетний деревенский карапуз, существо каким-то образом умудрилось начать и благополучно завершить как минимум одну книгу (в противном случае, совершенно непонятно, что же собирался издавать седой усатый двойник Дон Кихота, владелец книжного дома «Фрайман», которого я видел один-единственный раз, когда он собственноручно доставил на виллу маленькое чудо природы по имени Лиза).
Л
7. Ламия
Так как Гера лишила ее сна, она бродит по ночам. Сжалившийся над ней Зевс даровал ей возможность вынимать свои глаза, чтобы заснуть, и лишь тогда она безвредна.
Вторую женщину звали Юстасия. Она была фотографом из Праги. Я бы не взялся определить ее возраст. Порой мне казалось, что она совсем недавно закончила школу, а иногда – что ей около сорока. В этой женщине вообще не было ничего определенного; не только ее возраст, но даже пол временами вызывал сомнения. Когда она впервые появилась в холле, я принял ее за мальчика: высокая, худая, в мужской жокейской кепке с наушниками, в новеньких голубых джинсах, потертой куртке из тонкой коричневой кожи и тяжелых ботинках, с большим рюкзаком за спиной, она была похожа на белобрысого немецкого подростка – очень типичного! Я даже решил поначалу, что этот мальчик живет в поселке и подрабатывает, доставляя багаж гостей от железнодорожной станции, расположенной в пятнадцати минутах ходьбы от виллы, у подножья холма. Что ж, выходит, призраки тоже способны приходить к неверным заключениям…