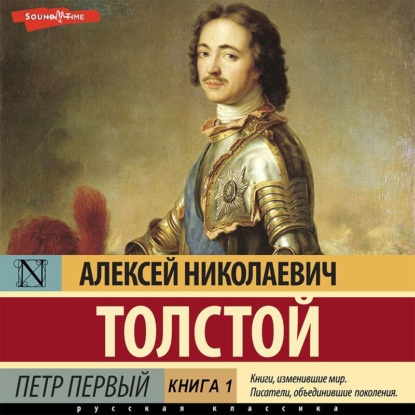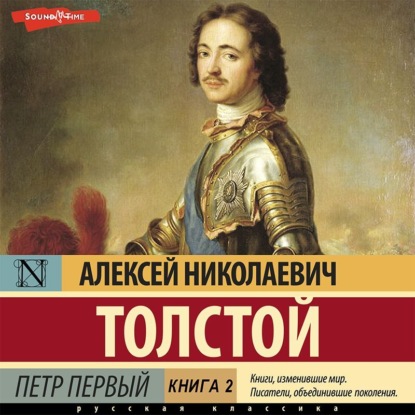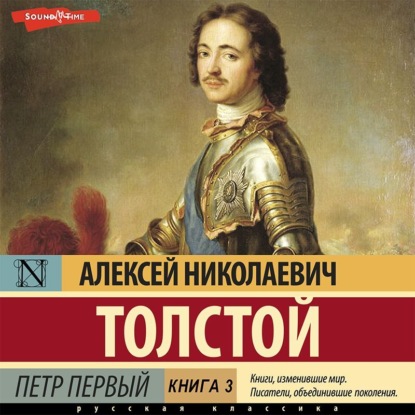Полная версия
Княжич. Соправитель. Великий князь Московский
– Будя! – крикнул Сенька отцу.
Тот, повернув плавильный горшок, отнес его к горну. Сенька же стоял неподвижно, придерживая воронку.
– Э, да ты здесь, сиз голубчик дорогой! – входя в кузницу и уж навеселе, крикнул радостно Илейка-звонарь, кланяясь Ивану. – А я с вестями, други мои. Пригонил из Мурома ключник наш, Лавёр Колесо. В Москве, говорит, в самой Покров, в шесть часов нощи, трясение земли было. Кремль и посад весь и храмы все поколебались.
– Господи, помилуй и сохрани, – перекрестился Васюк.
Перекрестился и Полтинка.
– Знамение Божие, – сказал он, – а что предвещает, неведомо: наказание али милость Божию…
– Предупрежденье, – промолвил строго Васюк, – народу знаменье за смуту московскую!
– А може, князям? – с усмешкой возразил Илейка. – Смуты-то князи сколь промеж собя деют? Християн на християн ведут, а поганые радуются. За княжие грехи сие…
Иван удивленными глазами смотрел на собеседников и ничего не понимал.
– Како же трясение земли бывает? – спросил он. – Пошто трясется она?..
– Колебание, княже, – важно ответил Илейка, – словно ты не на тверди стоишь, а в челноке утлом и волной тя шатает. Страх велик оттого в сердце бывает, а людие во многой скорби и безумии кричат и стенают… Потому опоры под ногами своими не чуют. – Илейка, видя, что речи его любопытны для княжича, тряхнул охмелевшей головой и продолжал: – А трясенье оттого, что земля-то на трех китах стоит. Прогневят Господа людие, и прилетит архангел с золотым копием и ткнет кита, как медведя рогатиной, а тот и поворотится да так, инда вся земля восколеблется, моря-окияны заплещутся, люди и звери все попадают, окорачь поползут…
Илейка внезапно оборвал свое красноречие, вспомнив, что сегодня монахи с сиротами своими осенний ез[57] закончили и теперь вот к вечеру пробовать будут, ловлю начнут.
– Иванушка, сиз голубчик, – заговорил он весело, – да вот в сей часец Данилка сюда прибежит. Ез сторожить я его поставил, а сам сюды, сказывали дворские, к Кузнецким-де воротам ты пошел…
– А когда же крест вынимать? – перебивая звонаря, спросил княжич Иван у Полтинки.
– Не скоро, Иванушка, долго стыть золоту надобно, а горяче-то и помять и погнуть можно.
Княжичу Ивану стало досадно, но делать нечего – приходилось ждать до завтра. Проходя мимо лотков для торговли готовыми изделиями, увидел он там серебряные серьги, кольца и кресты тельные. Внимательно осмотрел он все эти дешевые предметы для рынка и выбрал две пары серег одинаковых покрупнее, в виде круглых кольчиков с четырьмя подвесками золочеными, а одну пару поменьше – каждая серьга из трех шариков с позолотой решетчатой.
– Купи их мне, Васюк, – сказал он и, помедлив немного, добавил: – Хочу Ульянушке и Дуняхе подарить, а вот малые – Дарьюшке, а то она в медных ходит…
Данилка подбежал к ним со всех ног.
– Иванушка, – торопился он, – в сей вот часец кошель потоплять будут!
Готов ез-то! Рыбы – сила! Лещ, бают, в озеро пошел, когда еще ез ставили.
– Он, лещ-то, – вмешался Илейка, – к зиме глубину ищет, а пока еще жирует. Потом же всей силой в омутах спать заляжет.
– Идем, дядя Илья, – прервал его Данилка, – чернецы скорей иттить велели! Сила тамо леща-то, сила!
Пыл Данилки захватил всех. Побежал с княжичем и Сенька Полтинкин.
– И я прибегу, – крикнул им вслед сам Полтинка, – токмо лавку да кузницу на замки замкну!
На реке уж народ толпился против самого еза. Посредине же еза, что реку всю поперек перерезал, отверстие сделано аршина в два шириной, а за ним, против течения, тоже аршина на два отступя, опять ограждение из кольев и хвороста. Около ограждения этого рыбаки сидят в лодках и на веревках держат большое решето, из ивовых ветвей сплетенное, глубокое, и камни в него положены, чтобы на дно потонуть могло.
– Княжич, княжич! – закричали на берегу, снимая шапки и кланяясь.
Иван вместе с Васюком и Илейкой прошел к лодке и выехал на середину реки, к загороди, где был решетчатый кошель на веревках.
– Здорово, княжич! – встретил его монах и крикнул рыбакам: – Потопляй кошель!..
Рыбаки отпустили веревки, и кошель, сразу наполняясь водой, скрылся в глубине.
– Теперь слушай, Иванушка, – сказал Илейка княжичу, – когда зазвонит вон тот колокольчик. Как зазвонит, ну и тащи решето!
– А кто зазвонит-то?
– Рыба сама зазвонит, – хитро подмигивая, ответил Илейка.
Иван подумал, что старик смеется над ним, и брови нахмурил.
– Да ты не серчай, а пойми, – продолжал Илейка. – Рыба-то в загон, к решету пойдет, а через прорезь-то в езу толстые нити протянуты и с веревкой у колокольчика связаны. Пойдет рыба и задевать почнет нити, дергать их и веревку трясти у колокольчика. Оттого и звон будет…
Иван улыбнулся. Это было хитро придумано, любил он такие выдумки.
– Токмо тут уж скорей надобно кошель наверх тащить, – продолжал Илейка, – а то назад рыба вся выскочит; тут, княжич, надобно…
Звон колокольчика словно заткнул рот Илейке. Он застыл на месте, подавшись вперед всем телом, и впился глазами в ограждение, где рыбаки, рассекая воду, быстро выбирали веревки. Вот уже показались и высокие края решета, меж которых вода так и кипела, словно в котле.
– Знатно, знатно, – громко бормотал Илейка, – ишь, ишь уйма какая!
Иван, опираясь на плечо Илейки, встал на ноги и, глядя через край кошеля, видел, как там метались и, выгибаясь, прыгали широкие серебристые лещи. Рыбаки быстро глушили их палками и бросали в лодки… Раз за разом выхватывали они из воды кошель, полный рыбы, а рыба все валом валила, конца края ей не было. Рыбаки уж устали и сменившие их уставать стали, когда княжич Иван попросился домой.
На берегу Трубежа пылали костры – уху варили, а братия монастырская с сиротами и рыбаками пререкалась, самоуправством корила. В одном месте, где проходил княжич Иван, шумели пуще, чем в прочих.
Седобородый монах кричал и грозился среди сирот монастырских. Не успел Иван разобрать толком, что тут делается, как обступили его со всех сторон.
– Вот, княже! – кричал рослый мужик. – Весь я тут: шапка волосяная, рукавицы своекожаны. А хоть шкура овечья, да душа человечья!.. Где же правда-то?
– Стой, не реви, – остановил его другой. – Ты вот что разумей, княже. Мы монастырю-то засов[58] в лесу высекли и сюда вывезли, а зато нам токмо по хлебу да по осьмине толокна на душу. Забили кол и засов засовали, по хлебу же дали. Да за ужище за езовые[59] по хлебу на выть[60] да по осьмине толокна.
– Что ж нам, и ухи не похлебать, – снова зашумел рослый мужик, – всю рыбу не съедим, хватит и братии, а нам еще к зиме кол и засов для них вымать надобно будет.
Монах подошел к княжичу и сказал со злобой:
– Не верь им, княже, ибо пияницы и ленивицы велии. Богу послужити усердия не имеют. Иди с Богом, княже, спаси тя Христос.
Княжич посмотрел на монаха и вспомнил слова старой государыни, в Москве еще ему, во время смуты, сказанные: «Богу молись, а чернецам не верь». Молча поклонился он монаху и быстро пошел прочь.
В хоромах княжичей в своем покое принимал Алексей Андреевич гостя, дворецкого Константина Ивановича, между делом к нему заглянувшего. Пили мед стоялый, заедая коврижками. Коврижки местные были, переяславльские, Константин Иванович на торге купил и другу своему принес.
– Когда же государь-то будет? – спросил дьяк. – Ведь уж дня три, как конник-то с сеунчем пригнал. А ежели князь из Мурома в тот же день выехал, то и ему время здесь быти…
– А може, князь два дня, а то и три в Муроме простоит? Да и скакать-то не станет, как конник воеводы Оболенского. Може, и раны еще у него болят. Чаю, все же дня через два будет. Так и государыня Софья Витовтовна ожидает.
– Великое разумение во всем у государыни, – заметил почтительно Алексей Андреевич. – В нее да в деда своего, Василь Митрича, и наш Иванушка.
– Истинно, Лексей Андреич. Не видал я и слыхом не слыхал, чтобы дитя было так мудро. Дивятся ему люди.
– Не токмо с разумом да борзостью все он ведать может, но и всем естеством своим и станом не дитя он, а отроку подобен. За многих одному ему от Бога столь много дано…
– Истинно, истинно, Лексей Андреич, а еще и другое скажу тобе. Ныне время у всех разум вострит. Время наше вельми трудное и злое. Как вран хищный, оно прямо в темя клюет всякому! Данилка вот мой, всего по двенадцатому году, а баит и о смутах, и о ратях, и о делах государевых…
– Да, время, – согласился задумчиво дьяк, – время грубое, жестокое, как рожон железный на всякого прет. И старые и молодые от бед всяких разумнее стали, а те, которых Бог одарил, и того наипаче. – Дьяк случайно взглянул в окно и, увидев Ивана на крыльце хором, быстро промолвил: – А вот и княжич пришел!
Константин Иванович встал, а Алексей Андреевич поспешно поставил в поставец сулею с медом, оставив на столе только свою недопитую чарку и блюдце с коврижками.
– Мы ныне, – продолжал дьяк, убирая и пустую чарку Константина Ивановича, – будем числа учити. Учение сие тяжко, а надо же ведать человеку числа недель, месяцев, лет и пасхалий,[61] ведать, как числить выти и деньги, как земли мерять и прочее.
– Худая голова моя для дел мысленных, Лексей Андреич, – прервал его Константин Иванович и, поклонясь вошедшему Ивану, сказал: – Здравствуй, Иванушка, отягчил наставник-то твой мысли мои убогие.
Иван улыбнулся и молча сел за стол подле Алексея Андреевича, а дворецкий вышел.
– Хочешь, Иванушка? – предложил ласково дьяк, указывая на коврижки, принесенные дворецким. – Вкуси от переяславльских снедей.
Иван, о чем-то думая, молча взял коврижку и, откусывая понемногу, стал есть. Дьяк, поглядывая на него, допил мед из своей чарки и спросил:
– Ну, княже, что смущает тя? Вижу по лику твому, что хочешь нешто неведомое мыслию объять…
– Отчего трясение земли, Лексей Андреич? – начал Иван медленно. – Сказывал мне Илейка, да не верю яз. Говорит он, будто земля на трех китах держится. Когда же ангел золотым копием прободет кита…
– Хе-хе! – весело засмеялся дьяк. – Умница ты, Иванушка. Не верь ты невеждам глупым. Токмо омрачением мысленным так сказывать можно. Разумно ли допустить, чтоб земля, и храмы Божии, и святые угодники, и сам святой Иерусалим-град на тварях покоились?
– На чем же земля держится? – спросил нетерпеливо Иван, не спуская глаз со своего наставника.
– Стоит земля сама на собе, – медленно и вразумительно ответил Алексей Андреевич, – ибо в Святом Писании сказано: «Ты утвердил, Господи, землю на ее основании!»
– Как же на самой собе? – не понимая и разводя руками, спросил опять Иван. – Вот чарка – на столе стоит, стол – на полу хором, хоромы – на земле, а земля как же? Не разумею…
Дьяк наморщил лоб, собираясь с мыслями, и вдруг, весело усмехнувшись, сказал быстро:
– Земля в океяне, яко доска плавает, основание же ее о четырех углах. По краям земли горы высокие. Полнощные северные высоты выше всех прочих – всю ночь за ними солнце скрывается. Заходит оно за горы на западе и, обойдя северные, выходит опять из-за восточной высоты, подобной во всем западной. Отселе течет солнце над землей ввысь к полудню, а с полудня вниз к западу и там за гору уходит и в ночи по океяну низко летит, но не омочась нигде…
Иван смотрел прямо в рот Алексею Андреевичу, жадно ловя каждое слово, а когда тот окончил, долго еще сидел неподвижно. Странно ему было и дивно, как у часовой ветхой башенки, когда он часы самозвонные впервые увидел. Он чувствовал, как все кружится в голове его и будто глазами он видит и горы земные и как солнце течет, снижаясь к заходу, а потом мчится над океаном. Много раз проходит оно вокруг земли, как видение…
– Иванушка! – окликнул его дьяк, видя, что княжич как бы не в себе. – Что ты недвижим, словно каменный?
Княжич вздрогнул и улыбнулся.
– Видел яз все, Лексей Андреич, все, что ты сказывал мне, – произнес он, будто просыпаясь, и, совсем оживившись, добавил: – Скажи мне теперь, пошто же бывает земли трясение?
– Разумен ты, княже, вельми разумен, – радостно заговорил дьяк, – и есть хотение у меня все, что мне ведомо, тобе преподать. Внимай же, Иванушка. В земле суть скважины и щели глубокие. Когда же ветры внидут в подземные щели и скважины, а оттуда исходить не могут, не могут прорваться вон, тогда от напора их дрожит земля, как дрожит мачта, когда парус полон ветру.
Ликующий звон-перезвон во все колокола, как на пасху, загудел над Переяславлем Залесским. Вскочил с лавки княжич Иван, а дьяк закричал весело и зычно:
– Государь наш, князь великий приехал!..
Через крытые сенцы перебежал княжич Иван в княжие хоромы, но покои там все пусты были. Выскочил он в переднюю, а потом и на красное крыльцо.
Видит, конный отряд подъезжает, а матунька бегом вниз спешит. Вот и отец подъехал в своих золотых доспехах. Помчался Иван по ступеням лестницы и сам не помнил, как очутился около отца. Видит, обнимает отец матуньку, целует ее, плачут они оба от радости. У отца голос дрожит, и все он одно и то же повторяет с нежностью и лаской:
– Сугревушка ты моя теплая. Сердца моего радость…
Успокоилась Марья Ярославна. Обернувшись, заметил отец Ивана. Благословил его, поцеловал и, обнимая жену и сына, стал подыматься на красное крыльцо. Ждет их там старая государыня Софья Витовтовна, и Ульянушка с Юрием тут же.
Строгая стоит старая государыня, но глаза ее оторваться от сына не могут. Взглянул на нее великий князь и, оставив жену и сына, бросился к ногам ее, обнимает колени ей, руки целует. Неподвижно стоит Софья Витовтовна, только губы у нее дергаются да глаза самоцветами сияют. Такие же лучистые, ясные глаза и у сына ее Василия и у внука Юрия.
– Не чаял увидеть тобя, государыня-матушка, – говорит Василий Васильевич, подымаясь с колен.
Дрогнула старая государыня, охватила порывисто голову сына, прижала к груди своей и замерла совсем, глаза закрыла, а у ресниц крупными каплями слезы стоят. Отодвинула опять от себя сына, не насмотрится.
– Рожоное мое, – шепчет ласково и добавляет с упреком: – Для Руси ты князь великий, а для меня малый… Малай,[62] как татары говорят, совсем малай!
Нежные слова говорит Софья Витовтовна, а Ивану почему-то больно и обидно за отца. Никак он понять не может, отчего это он не умеет все сказать и сделать, как бабунька. У всех слова какие-то неверные, ничего от них не происходит, а у нее каждое слово как топором вырублено. Скажет она, и другим больше говорить нечего.
Смотрит княжич на бабушку и на отца, и кажется ему, будто бы тот такой же мальчик перед Софьей Витовтовной, как и он сам. Горько это и непонятно Ивану, но некогда все уразуметь – опять чьи-то кони к хоромам скачут. Взглянув на улицу, увидела старая государыня подъезжавшего к крыльцу Касима-царевича со своими нукерами. Отстранила она сына и сказала:
– Благослови Юрья, а потом гостей принимай своих. А яз прикажу к обеду накрывать в столовой избе.[63]
– Матушка, сей вот – царевич Касим, – поясняет Василий Васильевич, – через его помочь великую имею, и клялся он мне на кинжале…
– Шемяка на кресте тобе клялся, – сурово перебила его Софья Витовтовна.
– Он у меня в передовом отряде. С Улу-Махметом в распре и боле того – с братом своим, ханом Мангутеком…
– Встреть его, сынок, на крыльце, проведи к завтраку, проси, чем Бог послал. Не гадали мы, что на два дня ты раньше приедешь…
– Яз вперед погнал, а то обоз-то наш долго идет.
– Ладно, сынок, – сказала Софья Витовтовна, – после обеда, как гостя на покой отведешь, приходи ко мне. Все скажешь, и обо всем мы с тобой подумаем, что и как деять нужно…
Кивнула она Константину Ивановичу, который тут же стоял, на случай.
– Слышал яз речи твои, государыня, – быстро заговорил тот, – все приготовлю, как водится. Токмо вот государю поклонюсь.
Земно кланяясь, поцеловал он руку Василию Васильевичу и заторопился в хоромы слугами княжими распоряжаться в столовой избе: для князя, бояр и гостей обед приготовить.
– Не забудь, Иваныч, – крикнула вслед ему Софья Витовтовна, – молебную нарядить в крестовой! Спосылай к Спас-Преображенью.
Василий Васильевич радостно улыбнулся и сказал матери:
– Знаешь, мати, владыка Иона дал мне диакона Ферапонта в Москву из Мурома. Глас же у Ферапонта такой густой, словно рев у тура лесного!..
Глава 7
О злом совете Шемякином
Заслоняя глаза от заходящего солнца, толстый, длиннобородый тивун Евстратыч важно идет в богатой однорядке по мельничной плотине скудоводной речки Можайки.
– Эй, Юшка, дуй тя горой! – зычно кричит он. – Куды ты заткнулся, старый клин?
Только подходя к мельничному колесу, увидел он старого плотника, проверяющего вновь забитые колья, оплетенные хворостом.
– И что ты деешь, лихой дьявол?! – с гневом крикнул ему тивун.
Плотник Юшка досадливо нахмурился, обернулся. Это был складный жилистый старик, знавший себе цену.
– А ты что орешь-то, как скажонный? – сказал он спокойно. – Кой бес тя укусил?
– Ах ты, старый пес, – пуще закричал Евстратыч, – ужо улью те штей на ложку! Гляди-ка, солнце-то где, а у тобя ништо не готово. Воевода-то что повелел? Все заслоны плотин вборзе спущать! Ах, ежова твоя башка…
– Ахал бы ты, дядя, на собя глядя, – сердито оборвал старый Юшка тивуна и презрительно пробормотал: – Ишь тоже, свиное узорочье!..
Евстратыч совсем взбесился:
– Как же ты, холщовы порты, тивуна дворского можешь так лаять?..
– Сам из холщовых портов, из сирот в тивуны вылез. Мы и без тобя знаем, что делать. Спеси-то много, а токмо собака-то и в собольей шубе блох искать будет! – отрезал старик и, не глядя на тивуна, стал указывать сиротам, где подсыпать надо на хворост глины да щебня.
– Мотри, Юшка, – пригрозил ему вслед тивун, – до князя доведу!..
Озорной старик в ответ выгнул зад свой к тивуну и, похлопав себя по мягким частям, крикнул с вызывающей дерзкой веселостью:
– Накося!..
Тивун плюнул от злости и пошел прочь с плотины, а Юшка громко крикнул своему помощнику, чтобы и Евстратыч слышал:
– Тивун тоже! По бороде-то блажен муж, а по уму – вскую шаташеся! Ну да пропади он, а ты, Степан, спущай все затворы. Потешим воеводу. К ночи наводним до краев все рвы и у града и у посада! Третий день сироты – мужики и женки – с рассвета до темноты на четыре выти работают вокруг града Можайска и перед посадом его. Как только ведомо стало, что великий князь из Курмыша Улу-Махметом отпущен, а Шемяка из Галича в Углич побежал, приказал князь Иван Андреевич засеки делать и мосты на Москве-реке подрубить. В лесах вокруг Можайска уже все дороги, прямоезжие и окольные, завалены засеками из цельных дерев. Лежат дерева там сучьями и вершинами навстречу ворогам князя Можайского, и мосты везде уж подрублены. Молится князь с духовенством в соборе пред Чудотворной иконой Богоматери, что явилась при отце его, князе Андрее Димитриевиче. Воевода же его смотрит, чтобы вокруг града, на одну версту от стен отступя, крепче и выше засеки валили, чтобы, укрепив плотины на Можайке и Петровке, что в Москву-реку у Можайска впадают, наводнить все рвы градные, предстенные. Нет теперь ни проезду, ни проходу к Можайску, кроме тайной дорожки окружной, чужим неведомой. Скачут по той дорожке день и ночь гонцы – с Иваном Старковым и прочими в Москве князь Иван Андреевич через Звенигород ссылается, да с Сергиевым монастырем, да через Рузу и Тверь и с самим Шемякой, что в далеком Угличе втайне рать собирает…
Но у князей одно, а у сирот свое на уме, свои дела.
– Пошто, Семеныч, тивун-то на тобя ярился? – спросил Степан у Юшки.
– С жиру бесится. Вишь, какой ходит боярин брюхатый.
– А ему горе в чем? Жнет не сеет, ест не веет! Не то что у нас: хлеб с солью да водица голью…
– От нас же, сирот, урежет, – заговорил со злобой ражий парень, опускавший заслон, – с кажного сощипнет, ирод! Вон посулил овса на конь по два лукна.[64] А где наши кони овес-то ели?
– А нам где пшено да заспой овсяной?! – голосисто выкликнула женка, притащившая хворост.
– Что ты, Марфуша, не гневи Бога, – ответил ей парень, передразнивая голос тивуна, – рад бы и кашки сварить, да вишь, куры крупу расклевали!..
– Тать он! – резко отчеканил старый плотник. – Потому и не боюсь его, что он князем грозится, а сам князя боится…
– Борода у его апостольская, да усок дьявольский.
– Что ж поделашь. Кому кнут да вожжи в руки, а кому хомут на шею.
– Бают, матка его женка была мужелюбица лютая. Согрешила не то с боярином, не то из духовных с кем. По то и рука у его есть. Наверх-то, бают, маткин любленник его вытащил.
– А ляд с ним! – отмахнулся Юшка. – Не до его ныне. Вот пойдет на нас великий князь московской, лихо нам будет: и сечи, и пожар, и глад, и полон.
– Эх, беда горькая, – вздохнул Степан, – пошто токмо князь наш с Шемякой спутался? Были бы мы в стороне – сидели бы смирно и ели бы жирно.
– Верно, – одобрил Юшка. – В землю бы лег да укрылся, токмо бы глаза того не видали, как наши христиане, словно поганые, у христиан же полон берут! Нас, сирот, жен и детей наших холопами деют, продают басурманам в неволю.
Не так все стало, как думал князь Иван Андреевич. Прошло вот уже недели три, а укрепленья в Можайске, слава богу, и ныне ему совсем не надобны. Крепко засел в Москве великий князь с татарами – не до Шемяки ему теперь. Шемяка же втайне ушел из Углича и стал с войском в Рузе, во граде своем удельном. Сюда же по вызову спешному прискакал сегодня из Можайска и князь Иван Андреевич со своей стражей.
Князь Димитрий Юрьевич самолично встретил дорогого гостя на красном крыльце и, накормив его обедом, прямо повел в свою переднюю, где уже сидели за медами и водками все их друзья и доброхоты. Были тут бояре, воеводы, дьяки, гости и купцы галицкие, можайские, тверские и московские, попы и чернецы из Чудова и Сергиева монастырей, и сам богатый гость Иван Федорович Старков, что ночью еще из Москвы пригнал. Спешили все, чтобы в два дня совет закончить да поспеть куда надо.
В дверях передней князь Иван Андреевич склонился к Шемяке и спросил вполголоса:
– Какие из Москвы вести?
– Боится Василий-то! За стенами хоронится, – громко, со злой усмешкой ответил Шемяка и добавил еще громче: – Да ничего, уследим птичку, когда из гнезда выпорхнет. На то у нас и ястребы есть!..
Он громко расхохотался, а кругом подхватили злорадно и угодливо:
– Нет, теперь не сорвется с когтя.
– Ощиплем все перышки, а то не в меру властен стал! Не токмо купцам, а и боярам обиды чинит…
Когда все затихли, Шемяка сел за стол, отпил водки и заговорил снова:
– Все ныне мы вкупе, и все купно напряжем мышцы своя на борьбу с ворогом нашим лютым. Клянусь яз тобе, князь Иван Андреич, боярам и гостям великого князя тверского Бориса Лександрыча, и московским боярам и гостям, и тобе, Иван Федорыч, в особину, и отцам духовным, ибо они за правое дело наше молельщики и наши способники.
Димитрий Юрьевич поклонился всем в пояс и, приняв ответные поклоны, продолжал, снова садясь за стол:
– Злодей и душегубец князь Василий, брата моего ослепивший, ныне с татарами погаными всех нас именья, казны и вотчин лишить хочет. Яко волк ненасытный, жаждет крови испить нашей и все от нас отъяти! Двести тысящ рублей окупа посулил по собе он царю казанскому да еще много от злата и серебра и от одежды.
– Доживем с ним до клюки, что ни хлеба, ни муки! – яростно выкрикнул боярин Никита Константинович Добрынский.
– Истинно, истинно! Многие и великие тяготы на нас, окаянный, кладет! – зашумели кругом. – А где возьмем?! Через силу и конь не тянет.
– Все может Каин-братоубийца, – вскакивая со скамьи, еще яростней заговорил Шемяка. – В железы и меня он ковал, и кого хошь закует, ослепит и убьет из корысти и лютой злобы! Всю старину, отчину и дедину порушил! А вы, бояре тверские, и то доведите князю своему Борису Лександрычу, что Василий-то крест целовал царю Улу-Махмету отдать ему все княжение московское и все города и волости других князей! Сам же хочет он сесть на тверском княжении, князя вашего согнать, из Твери его выбить!..
Шемяка, позеленев весь от гнева, тяжело сел на свое место и жадно припал губами к стопе с медом.
– А татары? – спросил среди наставшей тишины молодой тверской купец Кузьма Аверьянов. – Не захотят они окуп из рук выпущать…
Насторожил всех этот разумный вопрос и смутил многих.
– Что с Василья берут, из того с нас вполовину возьмут, – ответил Никита Константинович, – а ежели и столько ж, за то не дадим мы поганым ни городов, ни волостей, наипаче княжеств своих!
Твердо и дерзко сказал это боярин Добрынский, а все сидят тихо, решенья в уме не имеют, смотрят на Шемяку, ждут, что скажет, но Димитрий Юрьевич не мог уж говорить более, и слово взял Иван Андреевич.
– Нам, князьям, – заговорил он, как всегда, вяло и лениво, но глаза его хитро выглядывали из-под одутловатых тяжелых век и бегали, как мыши, – всем нам, говорю, кто тут есть, надобно разумом добре все обмерить. Нас Москва давно уж слугами сделала, а ныне хочет и в рабство поганым отдать. Вот в чем беда наша, а не окуп! Пошто нам окуп давать за Василья? Пусть в полоне будет! Вы же помыслите о собе, бояре, и гости, и купцы, и вы, отцы духовные! Всех нас, жен и детей наших, все именье, казну и все вотчины наши дает князь Василь Василич в руки агарян поганых на веки веков.