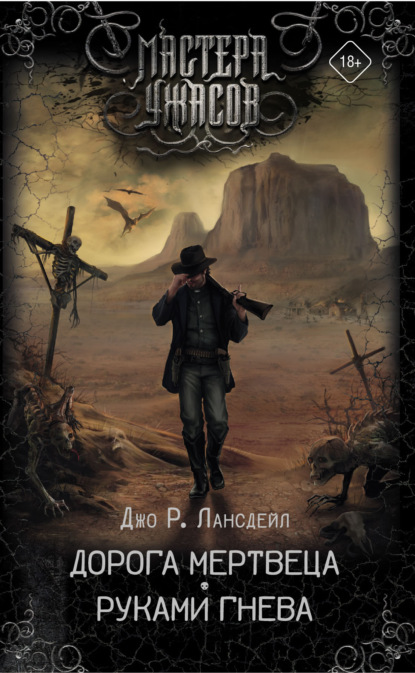Полная версия
Усмешка тьмы
И все же была одна зацепка. Отработать ее я отправился на сайт Британского совета по классификации фильмов.
В те времена, когда Совет являл собой инструмент жесткой цензуры, не одна комедия пострадала от его ножниц. Сокращен был один фильм Бастера Китона, два фильма Гарольда Ллойда, три фильма Чаплина, четыре – братьев Маркс, целых пять – с участием Лорела и Харди. Но Табби Теккерей отличился особо: зацензурены были не только «Табби и полные штаны проблем», «Табби смотрит в телескоп» и «Табби читает мысли» – вообще всем двадцати фильмам с его участием отказали в сертификации.
Я решил, что добавлять информацию о Табби на «Интернет Муви Датабейз» я буду только после выхода книги, но сейчас у меня есть иная причина наведаться на сайт. Читая информацию на странице Вилли Харта, я заметил, что в ссылках на источники был упомянут контактный электронный адрес его агента. Набросав для него несколько вопросов касательно загубленной репутации дедушки, Оруэлла Харта, я отправил письмо и вернулся на страницу о Табби. В моем треде появился ответ от Двусмешника.
Вообщще не поннимаю, что за чушшь несет эта ОШИБКА В ОПИСАНИИ, если это вообщще она. Ее/ (его?) постов я вообщще здессь никогда не видел, по крайней мере под ником Айви Монсли. Давайте все подождем, пока Айви прочтет заголовок в верхней части страницы. Заголовок глассит: Т.а.б.б.и. и е. г.о. в. ы.в.о.д.о.к. «Тройняшки», конечно, подраззумевают цифру три, но так обычно говорят о детишшках, а в фильме они никакие не детишшки. Эй, может быть, именно поэтому в названии нет ни слова о тройняшшках. Может быть, ОШИБКА В ОПИСАНИИ и фильм-то никакой не видела. Может быть, ей стоит большше никогда не писать на этом сайте и не тревожить людей, которые знают что-то о ффильмах.
Не думаю, что этот пост заслуживал чего-то большего, нежели смешка в ответ. Если Двусмешник распространяет дезинформацию о Табби – что ж, это делает мою книгу только полезнее. Тихонечко – из страха, что Джо захочет узнать, чего это я веселюсь, – я хихикаю в ладошку. Тут внезапно звонит мой мобильник.
– Это университет? – требовательно спрашивает мне прямо в ухо мужской голос.
– Нет, простите.
– В прошлый раз мне ответили, что да, – прежде чем я успеваю возразить, следует новый, еще более недоуменный по тону вопрос: – А как, вы сказали, вас зовут?
– Я не говорил, но – Саймон Ли Шевиц.
– Ну, вот так вы и сказали. Человек из университета. Так зачем вам я?
Теперь я узнаю его. Я слышал его голос на автоответчике и на кассете с «Золотым веком юмора», только теперь он кажется старше.
– Мистер Трейси? Спасибо, что позвонили. Я видел составленный вами киноальманах, «Золотой век юмора». Хотел бы поговорить с вами о Табби Теккерее, если у вас найдется время.
– Поговорить, значит, – его ланкаширский акцент проявляется все больше и больше по мере разговора. – А вы сказали, будет интервью.
– А что вы предпочитаете?
– А за что больше заплатят?
– А на сколько вы рассчитываете? – с удовольствием пасую я.
– Не думайте, что у меня куча свободного времени, – предупреждает меня Трейси, хотя я ничего такого и не утверждал. – У меня и моего проектора все расписано на месяц вперед. Есть еще люди, которые хотят смотреть старые фильмы не по телевизору, да и все равно, для телевизора такое кино не предназначено, – видимо, осознав, что это несколько противоречит его участию в создании кассеты «Золотой век юмора», он добавляет резко: – Три сотни – вот моя цена, на одно утро.
– Меня устраивает, – говорю я. – Мое издательство покрывает такие расходы.
– Вам придется прийти ко мне.
Говорит он таким тоном, будто предупреждает меня не совершать глупостей.
– Когда вам будет удобно?
– Завтра. Для вас будет лучше, если вы застанете меня в хорошем настроении. Вся неделя у меня загружена приватными кинопоказами.
Эти его слова – определенно повод спросить:
– Будете показывать фильмы Табби Теккерея?
– Не думаю, что это старье подходит для детских утренников.
– Почему бы и нет? Тот фильм, что включен в ваш альманах, довольно смешной. Он у вас один? Или удалось раздобыть еще?
– Наш разговор не записывается? Это же не часть интервью?
– Нет, я просто интере…
– Наш разговор не записывается, – это не просто утверждение, это что-то вроде приказа. – Оставьте все вопросы на завтра. И да, готовьте деньги.
– Могу я хотя бы спросить, какой фильм Табби попал в ваш альманах?
– Из нашего разговора мне показалось, что вы смотрели его. Там же все сказано.
– На моей кассете проблемы со звуком.
– Если вы знаете хоть что-то о Табби, вы сами догадаетесь.
– Ну, я решил, что это «Ужасные тройняшки».
– Ну и зачем тогда спрашиваете? – его голос звучит подозрительно. – А где вы вообще раздобыли эту кассету?
– Заказал в Интернете через вторые руки. Если бы я знал раньше, как выйти напрямую на вас, купил бы у вас. Кстати, можно?
– А зачем вам?
– Я стер нужную мне часть записи. Не спрашивайте как.
– На меня не рассчитывайте. Вы – единственный обладатель кассеты, которого я знаю.
Трудно поверить, что у него не сохранилась копия.
– Почему же она такая редкая?
– Спросите мудаков, выпустивших фильм. Они вляпались по уши, издав кое-какой незаконный контент.
– По-моему, к «Золотому веку юмора» это не относится.
– Они просто не снизошли до получения сертификата, вот «Век» и попал под раздачу вместе со всем остальным. Они сдали все свои архивы полиции и даже не воспользовались услугами адвоката. Перепугались, что он влетит им в копеечку, – усмехнувшись, Трейси добавил: – Да, не впервые у старика Табби проблемы с законом.
– А когда…
– Бесплатных слов я наговорил достаточно. Слышали? Потерпите до завтра. Я встречу вас на станции, если назовете точное время. Не путайте рамс.
– Простите, что?
– Не путайте рамс, сыщите-ка Мамс, – выдал он с нервическим смешком, слившимся с трескотней помех в трубке, и оставил меня наедине с моим недоумением.
Я поискал в Интернете расписание поездов – и уловил шутку. Чарли, видимо, ссылался на станцию с названием Олдхэм Мамс. Добраться туда из Эгхема можно за шесть часов, сделав пять пересадок. Пожалуй, все-таки надо было научиться водить машину. Наверное, подростком я бы сдал на права, вот только задача оказалась куда сложнее и ответственнее компьютерных гонок, в которые я тогда постоянно играл. Я звоню Трейси, чтобы сказать, что буду после часа дня, но он либо куда-то ушел, либо просто не берет трубку.
Проинформировав автоответчик о своих планах, я возвращаюсь к своему треду на «Муви Датабейз».
Прошу покорнейше извинить меня за то, что приходится ссылаться на факты, но составитель «Золотого века юмора» подтверждает мою правоту.
И да, мое имя – не ОШИБКА В ОПИСАНИИ. Это даже не мой ник.
Не слишком ли язвительно? По сравнению с коленцами Двусмешника – очень даже скромно. Поэтому я отправляю сообщение. Я не рассчитываю на его скорый ответ, но если он снова встрянет, мне останется только припечатать его своей книгой. Он и так отвлек меня от работы. Но завтра у него этот фокус не пройдет. Пусть зубоскалит в одиночестве.
10: Торфяники
В электричке мне выпадает сомнительная честь сидеть напротив какого-то долговязого подростка, который на протяжении трех часов залипал в игру на своем ноутбуке. У него такие длинные ноги, что его коленки упираются в мои. Я пытаюсь отвлечься на пейзаж за окном, но в сером безликом небе нет ни капельки утешения. Дорога выглядит настолько однообразной, что я теряю ощущение пространства и времени. На Манчестер-Пикадилли я понимаю, что сыт поездами по горло, и на своих двоих добираюсь через весь город до станции Виктория, торопливо лавируя между спешащими на обед обывателями. На поезд я еле-еле успеваю, запрыгиваю в последний вагон. Под аккомпанемент собственной одышки я, минуя ряды клерков, уткнувшихся в свои экранчики, добираюсь до ближайшего свободного сиденья и бухаюсь на него. Звонит телефон.
– Алло? – выдыхаю я с трудом.
– Кажется, вы удивлены? Или чем-то обеспокоены?
– Ни то, ни другое, – я делаю глубокий вдох. – Если вы, конечно, не звоните, чтобы сказать, что все отменяется.
– И как вам такое в голову пришло?
– Не знаю. Как-то.
– Ладно, замнем. Вы оставили мне сообщение?
– Да. Я назвал вам время приезда.
– Только и всего? Час дня, я помню. Ну, и где вы сейчас?
– Отъезжаю от Манчестера.
– Выйдите на той остановке, что после следующей.
– Что-то вы рамсы путаете. Мне нужно выйти на Мамс.
– Нет, – холод, звучащий в его голосе, буквально просачивается мне в ухо – кажется, он недоволен тем, что я вывернул его шутку наизнанку. – На той, что после следующей, – и Чарли Трейси дает отбой.
Поезд приближается к станции, напоминающей какой-то грубый набросок – начатый, но не завершенный проект. Под стальными навесами ютятся скелетоподобные лавчонки. Солнце вспыхивает на хромированных поручнях и бьет мне прямо в глаза, и прежде чем я смаргиваю эту болезненную белизну, мы уже подъезжаем к следующей, нужной мне остановке. Выглядит так же, как предыдущая. По крайней мере, я ощущаю твердую платформу под ногами, какой бы призрачной она ни была. По бетонному пандусу разбросан с десяток листовок, призывающих ВЗРЫВАТЬ МЕЧЕТИ и ОБЪЕДИНЯТЬСЯ БЕЛЫМ МЕНЬШИНСТВАМ. Пандус сбегает вниз, к улице, к ближайшему дому – вытянутому зданию без окон, чья серая кладка – почти такого же цвета, как хмурое небо над головой. Едва я ступаю на пандус, белый автофургон-развалюшка, припаркованный в тени здания прямо на разделительной линии, подмигивает мне фарами. На ржавом борту фургона все еще читается надпись «МУЛЬТФИЛЬМЫ, КИНО – ВЕСЕЛЬЯ ПОЛНО».
На сиденье водителя с трудом умещается мужчина – на нем серый спортивный костюм слоновьего размера; круглое лицо с мелкими чертами собрано в такую образцовую маску недовольства, что всякое дружелюбие хочется оставить при себе. Когда я залезаю к нему на переднее сиденье, то чуть не сбрасываю на пол массивный старый кинопроектор.
– Вели показ сегодня? – спрашиваю я, пока он открывает дверь и спрыгивает на дорогу.
– Нет, с чего вы взяли, – бурчит он в ответ. Я жду, пока он вразвалочку шагает к задним дверям фургона, отпирает их и ставит кинопроектор внутрь. Нутро фургона пусто. На полу я замечаю небольшой отрезок пленки – видимо, слетевшей с бобины проектора. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, убеждаюсь, что Чарли не смотрит, и поднимаю ее. Короткая – всего семь или восемь кадров; я не успеваю еще ничего рассмотреть, как задние двери с грохотом захлопываются, борта фургона сотрясает дрожь, из-за которой я чуть не роняю пленку. Но все же успеваю аккуратно смотать находку и сунуть в задний карман.
Чарли возвращается на водительское место. Оценивающе смотрит на меня, цыкает зубом.
– Деньги вперед, – коротко сообщает он.
Ничего не попишешь: я передаю ему конверт с новенькими, только-только из банка, хрустящими купюрами, он внимательно пересчитывает их. Надеюсь, интервью будет стоить того.
За окнами фургона – безрадостный пейзаж. Серое небо по-прежнему нависает над нами, городские виды все чаще перемежаются угрюмыми лесопарковыми зонами. Плавно, практически без зримого перехода, моим глазам предстал торфяник, поросший молодым вереском – наверняка весь в гадюках, выжидательно свернувшихся почти на каждой кочке. Торфяник черный и, насколько я могу судить, простирается от горизонта до горизонта. Одинокая придорожная стоянка, забавно контрастирующая с окружающей природой, пуста, если не считать фургона Чарли и старого столика для пикников с изрезанной вдоль и поперек деревянной столешницей.
Мы выходим. Чарли идет к столику и занимает большую часть скамейки, обращенной к дороге. Я же сажусь напротив.
– Мы здесь не случайно, – сообщает он. – Это что-то вроде моего личного места для уединенного времяпрепровождения. Здесь мобильный не ловит, – он ухмыляется. – А ведь они знай себе ждут, когда я выйду на связь.
– А о ком речь? – не совсем понимаю я.
– Ну вот, пожалуйста: какой-то чудик написал мне вчера посреди ночи и сказал, что хотел бы продать кое-какие фильмы, что могут показаться мне интересными. Прислал адрес, но когда я приехал по нему, оказалось, что дома с таким номером не существует. Я только что оттуда. Поэтому и захватил проектор – проверить на месте, есть ли там что-нибудь стоящее.
Его в открытую обвиняющий тон заставляет меня призадуматься.
– Погодите-ка, это не об этом ли сообщении вы меня сразу спросили? Вы что, подумали, что его оставил я?
– Ну, я же вас не знаю, – его взгляд тяжелеет. – Просто загвоздка в том, что, по словам этого неизвестного шутника, среди фильмов на продажу были и картины Табби Теккерея… Немного подозрительное совпадение, правда?
Под его тяжелым взглядом меня начинают терзать кое-какие подозрения.
– Продавец представился?
– Да, каким-то дурацким именем, вроде тех, какими в Интернете подписываются. Это точно были не вы?
– Не я, но, возможно, часть моей вины тут есть. Не стоило вас в это впутывать.
– Впутывать? Во что?
– В один спор о том, какой из фильмов с Табби вы использовали в альманахе. Вот почему я спросил вас об этом по телефону.
Чарли почему-то отводит взгляд, делая вид, что смотрит на дорогу… или, быть может, на торфяник. Может, он использовал фильм, игнорируя авторские права?
– Это спор в Интернете, – уточняю на всякий случай я, – и я просто решил отстоять правду.
– Вот как.
– Простите, если доставил вам лишние хлопоты. Вас, наверное, не стоит упоминать в книге?
– В книге? Ну, назовите меня Чак Трейс. Посмотрим, признает ли кто.
Не уверен, что моя улыбка уместна, но я улыбаюсь. Возможно, именно это проявление человечности с моей стороны сподвигает его перейти прямо к делу:
– Ну так что, приступим к тому, ради чего мы здесь, а?
– Если честно, сгораю от желания посмотреть что-нибудь с участием Табби.
– Может, сначала послушаете о нем? – Трейси наклоняется через стол, понижает голос, и под его локтями хлипкая древесина столешницы жалобно поскрипывает. – Знаете, что я вам скажу – так, для разогрева? Мой дед однажды видел его вживую.
– Вот как? – удивляюсь я, памятуя о том, что все, что скажет мне этот человек, может быть сильно приукрашено. – На сцене?
– В Манчестере. Табби официально выступал на публике в первый и последний раз тогда. Если верить дедушке, там чуть бунт не вспыхнул.
– Почему? Из-за того, что Табби объявил об уходе?
Трейси хохотнул как-то по-знакомому.
– Потому что он их чересчур завел.
– Завел? – повторил я эхом.
– Понимаю, звучит двусмысленно, – Трейси хихикнул еще разок. – Он сделал так, что они стали подшучивать друг над другом. Заставил их так сильно смеяться, что некоторые попросту не смогли остановиться.
– Но вы сказали – бунт…
– Часть публики повалила на улицу. А кто-то так и остался покатываться со смеху внутри. Директору театра пришлось вызвать полицию. Мой дед сказал, что обстановочка сложилась погорячее, чем тогда, когда гремели забастовки. Он, кстати, никогда не ладил с профсоюзами.
– Это ведь было не то представление, на котором был Оруэлл Харт?
– Нет, это было другое, неофициальное, на юге страны. Табби не то чтобы гастролировал – скорее, спасался бегством. Не все соглашались принять его, когда узнавали о приезде Теккерея.
– И что же такого было в этих его представлениях?
– Я покажу вам. Но позже.
Как только искусительный огонек в глазах Трейси угас, я произнес:
– А я как раз раздумывал, что же такого в нем нашел Харт.
– В одном из интервью голливудской газетенке Харт заявил, что Кистоунские копы по сравнению с Табби – просто горстка святош. Вот так он, собственно, и продал его Маку Сеннету. И все-таки вы не знаете, как Табби вел себя на встрече с Хартом. Пытался унять свою натуру изо всех сил.
– Всего лишь пытался?
– Вы же видели его на моей кассете?
– Ну да.
От ветра серая шкура торфяного болота идет рябью, начинают содрогаться распахнутые двери фургона – будто кто-то невидимый пытался пробраться внутрь. Пригладив растрепавшиеся волосы, Трейси говорит:
– Это он выступал далеко не на полную катушку. Умеренная серединка.
– В таком случае, хотел бы я посмотреть на него, когда он уходит в полный отрыв.
Трейси открывает рот, обнажая нижнюю десну и зубы, но пока я недоумеваю, что должно означать это выражение, к нему возвращается дар речи:
– Мой дедушка не давал папе смотреть фильмы с Табби, даже те, которые у нас были.
– У вас есть какие-то догадки, почему некоторые из них были запрещены?
– Люди вроде дедушки подняли шумиху. На том неудавшемся выступлении случился сердечный приступ у нескольких женщин… от смеха. Кое-кто начал глубоко копать, и много всего интересного попало в газеты. На показах его фильмов часто случались казусы. А в одном кинотеатре в Экклсе вроде как произошло нечто такое, о чем даже в газетах написали далеко не всю правду.
– Да, в наши дни такое не укрылось бы от публики.
– Да в наши-то дни что угодно можно спрятать под ковер, – не соглашается со мной Трейси. – Мир показывают не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким его хочет видеть большинство.
– В таком случае странно, что вы не рассказали правду о Табби в «Золотом веке юмора».
– Наверное, надо было. Я интересовался им именно потому, что у него были проблемы с законом. Но я был слишком юн. Хотелось как-то обелить его. Но да, именно из-за этих повсеместных запретов его карьера пошла под откос.
– И что же случилось с ним потом? – спрашиваю я, когда пауза затягивается.
– Он писал сценарии для юмористических короткометражек. Некоторые даже шли в работу. Но сделать полноценный фильм ему не позволяли. Он подбил Хэла Роуча на фильм «Пусть себе смеются», но заметить его в этой ленте можно только в конце, да и то – если спецом присматриваться. Там он за рулем машины. Играет водителя.
– А дальше?..
– Дальше он пытался скормить пару идей Стэну Лорелу, но тому они не пришлись по душе. Тогда Табби подался в цирковые артисты. – За спиной Трейси гладь торфяника рябит, словно некачественное изображение на старом телеэкране. Дверцы фургона снова поскрипывают. – Хотел таким образом вернуться к истокам.
– Я думал, он устроился в мюзик-холл, – коль скоро единственной реакцией Трейси на мои слова служит чуть отвисшая нижняя губа, я пробую закинуть еще одну удочку: – А откуда вам все эти подробности известны?
– От парня по имени Шон Нолан. Он продал мне фильмы с Табби.
– Как думаете, мне стоит лично поговорить с ним?
– Лично поговорить? – уголки губ Чарли резко взлетают вверх, будто вздернутые рыболовными крючками. – Да дерьмо вопрос. Не вижу причин, почему бы хоть прямо сейчас к нему не съездить.
– А потом вы покажете мне какой-нибудь фильм с Табби?
Ухмылка Чарли увяла, зато в глазах появился какой-то непонятный блеск.
– Хотите, значит, увидеть, из какого теста он был сделан.
– Все, что вы могли бы продемонстрировать мне, пришлось бы очень даже к мес…
Я не то чтобы недоговариваю – я мигом забываю, как оканчивается начатое мною слово, потому что Трейси вдруг встает и хватается за живот обеими руками. Поначалу я думаю, что у него какой-то приступ – и только потом понимаю, что он весь трясется от беззвучного смеха. Его губы поначалу крепко сжаты – но вот они разъезжаются в стороны, как ставни, открывая полосу зубов. Это уже не вполне улыбка – скорее, оскал, да и в прорывающихся наружу смешках есть что-то не вполне человеческое, что-то от гиены или шакала. Наконец, как гром посередь ясного неба, следует раскат нечеловечески громкого хохота – и даже меня этот неожиданно живой и четкий звук, столь невообразимый здесь, в торфяниках, повергает в нервную дрожь. Я весь так и подскакиваю – колено больно ударяется о столешницу.
– Какого черта! – вскрикиваю я, хватаясь за ушибленное место.
Он мигом смолкает и как-то сникает – будто этой гротескной сценки и вовсе не было.
– Вот так, – заявляет он отстраненным голосом. – Вот так это и бывает. А хочешь больше?
– Хочу, – произношу я, опомнившись, – только, может, теперь лучше мне сесть за руль?
– Ну нет. Ни за что не выпущу проектор из виду. Он мой самый старый и самый лучший друг. Кормилец.
Мы идем к фургону, Чарли останавливается у задних дверей, открывает их и кивает мне – мол, залезай.
– Путь недалекий, – успокаивает он, когда я оказываюсь внутри, и захлопывает створки – отрезая меня от света внешнего мира.
11: Захоронения
Когда фургон с ревом стартует со стоянки, я забиваюсь в угол. Хорошо хоть, едем под горку. Я весь подбираюсь – дороги из кузова не видно, но ощущение такое, будто мы резво скачем с полосы на полосу. Мимо проносятся на скорости другие машины – или это лишь порывы ветра, гуляющего по торфяникам? Если это ветер, то он невероятно сильный – крайний порыв, по моим ощущениям, едва не скинул нас в кювет. Впрочем, мимо нас просто могла промчаться дальнобойщицкая фура. Я прижимаю руки к металлической стенке – так они меньше трясутся. Мы минуем – опять же, если верить звукам, – целый кортеж из автомобилей, или это какие-то стены, или еще какие-то объекты, стоящие вдоль дороги?
Звуки снаружи сливаются в волнообразный ритм, напоминающий дыхание – во мраке они чуть ли не погружают в транс. Чем сильнее я прислушиваюсь, тем громче они кажутся. Какой-то странный шум доносится из кабины, где сидит Чарли, – и унять мою тревогу совсем не помогает тот факт, что двигаться мы стали тоже как-то странно, резкими рывками.
Вскоре я начинаю понимать, что звуки мне-то как раз знакомы – простенькая, в два такта, мелодия, сигнализирующая о полученном на мобильник текстовом сообщении. Надеюсь, Трейси не тыкается в телефон, будучи за рулем, хотя наши заваливания и рывки говорят как раз таки об обратном.
– Не дрова везешь! – кричу я, но реакцией на мои слова служит очередной рывок, отправляющий меня в перекат из одного угла в другой; колено, ушибленное о стенку, пронзает болезненный спазм. Мы что, свернули с основной дороги? Если да, то почему на развилке Чарли не сбросил скорость? Металлические стены вибрируют – не то от злого ветра, не то от резко ухудшившегося качества дорожного покрытия, и этот давящий шум порождает в голове полнейший сумбур. А тут еще фургон закладывает такой резкий и сильный вираж, что я вообще перестаю понимать, в какую сторону мы движемся. Похоже, мы на полной скорости вписываемся в поворот и резко тормозим – и я снова прикладываюсь об днище кузова.
Я слышу, как открывается водительская дверь. Прямо сейчас покидать относительно безопасное нутро фургона у меня нет никакого желания – по крайней мере, сперва стоит убедиться, что мы уже остановились. Кабину заполняет свист ветра, от чего звук шагов Чарли Трейси становится практически неразличимым. Я жду, когда он откроет задние двери, но ожидание как-то совсем уж неприлично затягивается, и, молотя ладонью по стальной стенке, я начинаю голосить:
– Эй! Ты там про меня не забыл? Выпусти!
Быть может, ветер заглушает мои протесты – как и все звуки снаружи. Я луплю по металлу, пока он не начинает дрожать, как барабанная мембрана, а мой голос не тонет в этом пружинистом дрожании. Вот уже и задние двери подхватили этот ритм, а кулак начинает саднить. Мне кажется, или дребезжат они как-то уж слишком свободно? Встав, я налегаю на дверные ручки – и створки распахиваются, едва не вываливая меня за собой наружу.
Итак, я на кладбище. Видок несколько обескураживающий – я отшатываюсь назад, будто от края пропасти. Мощеная алея передо мной ведет к невысокой белой церкви с пирамидальным шпилем, за которым виднеется вышка телефонной связи. Подбрюшье стремительно темнеющего неба опаляет низко садящееся солнце, и окна церкви вспыхивают длинными плоскими бликами, ловя его прощальный свет. Ветер блуждает средь памятников, пригибая одинокие деревья – как бы подчеркивая почти фотографическую неподвижность всего остального кладбища. Фургон скрипит от очередного порыва, бьющего в борта, пока я забрасываю ноги за край днища и спрыгиваю на темные плиты.
Неужто все то время, что Трейси меня вез, двери были неплотно закрыты? Не на шутку разозлившись, я чеканным шагом иду к открытой кабине – но внутри нет ни его, ни мобильника. Он не мог уйти далеко – проектор остался на пассажирском сиденье. Я захлопываю дверь – вовсе не потому, что беспокоюсь об имуществе Чарли, а в надежде, что звук вернет его сюда. Но вскоре понимаю, что он не появится, и, лишенный альтернативы и сбитый с толку, иду к кладбищенским воротам.
Внизу простирается заводской район. Узкие улочки, серые дома, торжество бетона и камня, холм бросает тень на заводские амбары с возвышающимися над ними трубами, из которых тянутся вымпелы черного дыма. У подножия холма ползет поезд – его мелькающие окна похожи на кадры стремительно перематываемой кинопленки. А больше никакого движения я не вижу. Никаких признаков Чарли Трейси. Дорога, ведущая к погосту, тянется куда-то к болотам, а в той стороне пусто. Наверное, он бродит где-то среди могил или зашел в церковь… Иначе где же еще ему быть?