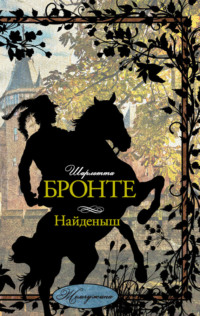Полная версия
Шерли
Мистер Йорк не обладает ни поэтическим даром, ни силой воображения и считает их самыми никчемными из людских качеств. Художников и музыкантов еще терпит, даже одобряет, поскольку в результатах их творчества находит удовольствие и может оценить хорошую картину или порадоваться приятной музыке, однако тихий поэт – какие бы чувства и страсти ни кипели в его груди, – неспособный стать клерком или торговцем шерстью, мог бы всю жизнь прозябать и даже помереть с голоду прямо на глазах у Хайрама Йорка.
А поскольку Хайрамов Йорков на свете немало, то хорошо, что истинный поэт часто скрывает свой мятежный дух и проницательность под внешней смиренностью и спокойствием, ведь он способен оценить по достоинству тех, кто смотрит на него сверху вниз, верно определить бремя и цену отвергаемых им честолюбивых стремлений, чем вызывает презрение таких вот Йорков. К счастью, поэту доступно иное блаженство – круг близких друзей и лоно природы; он далек от тех, кто не любит его и кого не любит он сам. Хотя мир и обстоятельства часто поворачиваются к поэту темной, холодной стороной (собственно, он первый демонстрирует им свою темную, холодную сторону), в сердце поэта – свет и огонь, которые согревают и освещают его путь, в то время как остальным его существование представляется полюсом холода, где никогда не проглядывает солнце. Истинного поэта вовсе не следует жалеть – он еще и посмеется тайком над теми бестолковыми утешителями, кто будет иметь глупость пустить слезу над его невзгодами. Даже когда приверженцы утилитаризма провозглашают поэзию и его самого бесполезными для блага общества, он выслушивает приговор несчастных фарисеев с таким явным, глубоким, всеобъемлющим и безжалостным презрением, что заслуживает скорее упрека, чем сочувствия. Впрочем, мистер Йорк об этом даже не задумывается, а мы сейчас говорим именно о нем.
Тебе, читатель, уже известны недостатки нашего персонажа, что же касается достоинств, то он один из самых уважаемых и толковых жителей Йоркшира, его вынуждены уважать даже те, кому он не нравится. Мистера Йорка очень любит беднота, потому что к ней он всегда по-отечески добр. К своим работникам внимателен и радушен. Когда приходится кого-нибудь уволить, он старается найти ему иное занятие или помогает перебраться с семьей туда, где работу найти легче. Йорк, как и многие из тех, кто ненавидит подчиняться, вполне способен подчинить другого, и если порой кто-нибудь из его работников выказывает неповиновение, то он душит начинающийся мятеж в зародыше, выпалывая как сорняк, поэтому в его владениях беспорядки никогда широко не распространяются. Дела Йорка обстоят наилучшим образом, и он считает себя вправе отчитывать своих менее удачливых соседей со всей строгостью, приписывая неудачи им самим, становясь на сторону работников, а не провинившихся хозяев.
Род Йорков – один из старейших в приходе, и хотя мистер Йорк не самый богатый в округе, зато пользуется всеобщим уважением. Образование он получил хорошее. В юности, до Французской революции, много путешествовал по континенту, в совершенстве овладел французским и итальянским языками. Во время двухлетнего пребывания в Италии Йорк приобрел множество прекрасных картин и антикварных вещиц, которыми украсил свой дом. При желании держится как настоящий джентльмен старой закалки, ведет интересные и оригинальные беседы. Если же вместо изысканного светского языка он выражается на родном йоркширском диалекте, то лишь потому, что ему так хочется. «Картавость йоркширца, – говаривает он, – намного приятнее шепелявости лондонца из низов, как рев быка приятнее крысиного писка».
Мистер Йорк знает всех и вся и известен всем на мили вокруг, однако близких друзей у него не много. Будучи оригиналом, он не терпит посредственности: характер колоритный, пусть и грубый, независимо от происхождения, им всегда приветствуется, а пресная серость, пусть и со светскими манерами и высоким статусом, вызывает отвращение. Йорк может проговорить битый час с собственным ушлым работником или с чудаковатой, но мудрой старушкой из своих арендаторов, и в то же время поскупиться на беседу с ничем не примечательным джентльменом или с элегантной и легкомысленной леди. Свои предпочтения в подобных вопросах доводит до крайности, забывая, что среди тех, кому не предназначено быть оригиналом, вполне могут обнаружиться натуры приятные и даже достойные восхищения.
Впрочем, иногда Йорк делает исключения. Странно, но особенно ему нравятся люди простые, бесхитростные, не отличающиеся тонкостью вкуса, не обремененные интеллектом и не умеющие отдать должного его блестящему уму; в то же время им никогда не претит его грубость, их не ранит сарказм, они не разбирают по косточкам его слова, поступки или взгляды. Среди подобных личностей он чувствует себя легко и непринужденно. Подчиняясь влиянию мистера Йорка безоговорочно, они ни за что не признали бы его превосходства, потому что не отдают себе в нем отчета; таким образом, их податливость ничуть не грозит обернуться угодливостью, а бездумная, безыскусная индифферентность вполне устраивает Йорка, как и кресло, в каком он любит сидеть, или земля, по которой ходит.
Читатель, наверное, уже заметил, что к Муру мистер Йорк проявляет определенное участие. И тому есть две или три причины. Первая из них – иностранный акцент Мура, с которым он говорит по-английски, в то время как по-французски изъясняется очень чисто; к тому же смуглое худощавое лицо Мура с тонкими изящными чертами выглядит совершенно не по-британски и тем более не по-йоркширски. Вроде бы незначительные детали, которые едва ли могут повлиять на человека, подобного Йорку, однако они будят в нем давние, наверняка приятные, воспоминания – о путешествиях, о юности. В итальянских городах ему случалось видеть лица как у Мура, в парижских кафе и театрах он слышал голоса как у Мура. Тогда мистер Йорк был молод, теперь же, глядя на иностранца и слыша его речь, он вновь чувствует себя юным.
Йорк знавал отца Мура и вел с ним торговые дела. Эти узы более крепкие, хотя и не такие приятные, поскольку его предприятие в определенной степени пострадало от банкротства Муров.
Сам Роберт – ловкий делец. Йорк понимает, что в конце концов Роберт разбогатеет, уважает в нем твердость намерений и остроту ума, а также, вероятно, стойкость.
Мистер Йорк является одним из опекунов поместья, к которому принадлежит фабрика в лощине, соответственно Муру приходится часто обсуждать с ним свои многочисленные перестройки и усовершенствования.
Что же касается второго гостя, мистера Хелстоуна, то между ним и хозяином существует взаимная неприязнь, причем вызванная не только разницей их характеров, но и жизненными обстоятельствами. Вольнодумец ненавидит догматика, приверженец свободы презирает сторонника авторитарной власти; вдобавок, по слухам, некогда оба они добивались руки и сердца одной юной леди.
В юности мистер Йорк, следуя общему правилу, предпочитал женщин веселых и задорных: эффектных, остроумных, бойких на язык. Впрочем, никому из этих блистательных красоток он так и не сделал предложения – напротив, внезапно всерьез увлекся и начал усердно ухаживать за той, которая представляла собой полную им противоположность: девушкой с лицом Мадонны, прекрасной, как мраморная статуя, и такой же безмятежной. Йорка не смущало, что на все его фразы она отвечала односложно, не замечала тяжких вздохов, не возвращала ему пылких взглядов, не разделяла убеждений, редко улыбалась шуткам, не уважала его и не обращала на него никакого внимания. Не имело ни малейшего значения, что ей не было присуще ни одно из тех качеств, которые прежде так восхищали его в женщинах. Для мистера Йорка Мэри Кейв казалась верхом совершенства, и он ее полюбил.
Мистер Хелстоун, в те времена еще только курат прихода Брайрфилд, тоже любил Мэри или, по крайней мере, ухаживал за ней. Ею восхищались многие, потому что она была прекрасна, словно изваяние ангела на кладбище, однако девушка предпочла именно Хелстоуна благодаря тем перспективам, какие открывались перед молодым священником. Видимо, прельстившись саном будущего мужа, мисс Кейв отвергла прочих кавалеров – юных перекупщиков шерсти. Хелстоун никогда не питал к Мэри ни всепоглощающей страсти, которую испытывал Йорк, ни благоговейного трепета, отличавшего большинство ее поклонников. Хелстоун видел ее истинную суть, что другим было не дано, вследствие чего с легкостью добился благосклонности. Она с радостью приняла его предложение, и они поженились.
По своей природе мистер Хелстоун никогда бы не стал хорошим мужем, особенно для женщины кроткой и бессловесной. Он считал, что если жена молчит, то ее все устраивает. Если она не жалуется на одиночество, каким бы продолжительным оно ни было, значит, ей оно не в тягость. Если жена не лезет в разговор и не мозолит глаза, не выказывает склонности или отвращения к чему-либо, значит, не имеет вообще никаких склонностей, и ее мнение можно не принимать в расчет. Понять женщин Хелстоун даже не пытался и не сравнивал их с мужчинами. Женщины виделись ему иными существами, вероятно, низшего порядка. Жена не может быть мужу ни другом, ни советчиком, ни тем более опорой. После года-двух супружеской жизни Мэри не значила для него практически ничего, и когда совершенно неожиданно – по крайней мере, он едва ли заметил ее постепенное угасание в отличие от всех остальных, – она покинула и его, и земную жизнь, Хелстоун изумленно взирал на лежавшую на супружеском ложе неподвижную, но еще прекрасную бренную оболочку, белую и холодную как статуя. Кто знает, насколько глубоко он переживал свою утрату. Со стороны судить трудно, ведь Хелстоун был не тем мужчиной, который способен рыдать от горя.
Его сдержанная скорбь возмутила старуху экономку и сиделку, ухаживавшую за миссис Хелстоун. Наверняка за это время она имела возможность узнать о характере покойной, ее способности чувствовать и любить куда больше, чем муж за два года совместной жизни. Сидя у гроба, старухи перемыли все косточки обоим супругам, обменялись наблюдениями, дополнили подробностями ее затяжной недуг и его вероятную причину. Короче говоря, они дружно ополчились на сурового маленького человечка, который сидел за бумагами в соседней комнате, не подозревая, какому поруганию подвергается.
Не успела миссис Хелстоун упокоиться в могиле, как поползли слухи, будто она умерла от разбитого сердца. Стали поговаривать о грубом обращении со стороны мужа, потом и до рукоприкладства додумались, и эта явная клевета вскоре захватила многих. Мистер Йорк слышал все, чему-то даже верил. Хотя он и сам успел жениться, выбрав полную противоположность Мэри Кейв во всех отношениях, однако позабыть величайшего разочарования своей жизни был не в силах. Он и прежде не питал добрых чувств к счастливому сопернику, а когда прознал, что тот не проявлял к его ненаглядной должного внимания и заботы и, возможно, даже поднимал на нее руку, то в нем вспыхнула глубокая ожесточенная вражда.
Сам мистер Хелстоун не вполне сознавал природу и силу этой неприязни. Он понятия не имел, как сильно Йорк любил Мэри Кейв, что испытал, утратив ее, да и клевета о жестоком обращении молодого священника с женой была на слуху у всех, кроме него самого. Хелстоун считал, что их с Йорком разделяют исключительно политические и религиозные разногласия. Если бы он сообразил, в чем истинная причина, едва ли поддался бы на уговоры и переступил порог дома своего бывшего соперника.
С наставлениями Роберту Муру было покончено, и разговор перешел на общие темы, хотя сварливый тон остался. Неспокойная обстановка в стране, всевозможные бесчинства, которым подвергаются владельцы мануфактур, служили предметом яростных споров, тем более что взгляды троих присутствующих джентльменов на текущие события сильно разнились. Хелстоун считал, что хозяева страдают незаслуженно, а работники ведут себя безрассудно. Он осуждал недовольство властями и растущее день ото дня нежелание мириться с неизбежным, на его взгляд, злом. В качестве лекарства прописывал решительные правительственные меры, суровые судебные приговоры, незамедлительное вмешательство армии.
Мистер Йорк поинтересовался, смогут ли эти крутые меры накормить тех, кто голодает, и обеспечить работой тех, кто остался без нее и кого никто не хочет нанимать. Идею неизбежности зла он с презрением отверг. Считал, что народное терпение – верблюд, на чью спину уже возложена последняя соломинка, и нет теперь иного выхода, кроме сопротивления. Повсеместное недовольство действиями властей Йорк полагал самой прогрессивной приметой времени. Он допускал, что владельцы мануфактур и действительно терпят убытки, однако основной вред им наносит прогнившее, подлое и кровожадное правительство (именно так он и выразился). Государственные деятели вроде Питта, Каслри и Персиваля – проклятие для страны, губители ее торговли. Их сумасбродное упорство в неправомерной, безнадежной и разорительной войне довело нацию до нынешнего критического положения. Чудовищные налоги, позорные королевские указы повесили Англии мельничный жернов на шею, и они заслуживают суда и виселицы больше, чем кто бы то ни было из британских общественных чиновников!
– Что проку в разговорах? – воскликнул Йорк. – Разве голос разума будет услышан в стране, где правят король, духовенство и пэры? В стране, которую номинально возглавляет помешанный, а на деле над ней стоит беспринципный распутник[18]; где терпят такое издевательство над здравым смыслом, как наследственных законодателей и епископов-законодателей – вы только вдумайтесь в этот бред! – где терпят и даже почитают разжиревшую, душащую свободу мысли церковь; где регулярная армия и толпа лентяев клириков с их нищими домочадцами пользуются всеми благами земными!
Хелстоун вскочил, надел шляпу и заметил, что за свою жизнь пару раз встречал людей с подобными умонастроениями, которые придерживались их, пока были здоровы, сильны и богаты. Однако для всех наступит время, когда «задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и высоты будут им страшны, и на дороге ужас»[19], и оно станет испытанием для поборников анархии и бунта, врагов религии и порядка. Однажды его позвали читать молитвы, которые церковь предназначила для здравия болящих, к постели умирающего – одного из самых непримиримых врагов веры, и того терзали страшные муки совести, он жаждал покаяния и не мог отыскать этот путь, хотя слезно к нему стремился… И долг его – предостеречь мистера Йорка, что возводить хулу на Бога и короля – смертный грех, и что грядет судный день.
Мистер Йорк вовсе не отрицал, что судный день наступит. Будь оно иначе, трудно и представить, что без воздаяния остались бы негодяи, которые безнаказанно разбивают невинные сердца, злоупотребляют незаслуженными привилегиями, позорят благородное призвание, вырывают кусок хлеба у бедноты, нагоняют смертный страх на безответных, раболепствуют перед богатыми и знатными. Однако, добавил хозяин, стоит ему впасть в уныние от подобной несправедливости, царящей на этом куске навоза, что мы зовем своей планетой, как он берет в руки вон ту книгу (он указал на Библию в книжном шкафу), открывает наугад и натыкается на стих, сияющий синим серным огнем, и тогда успокаивается. Уж он-то знает, куда кое-кто попадет после смерти, будто к нему на порог явился ангел с огромными белыми крыльями и возвестил это.
– Сэр, – возразил Хелстоун со всем достоинством, на какое еще был способен, – человек должен познавать себя и учитывать пределы своих возможностей!
– Ну да, ну да. Вспомните, мистер Хелстоун, как двое ангелов связали Невежду по рукам и ногам, подняли и понесли по воздуху до двери на склоне горы, которая вела прямо в ад, и бросили его вон во тьму кромешную![20]
– А еще я помню, мистер Йорк, что Самоуверенный, не видя перед собой дороги, продвигался на ощупь, упал в глубокую яму, специально для этого вырытую владельцем тех мест для самонадеянных и самоуверенных безумцев, и разбился насмерть!
– Послушайте, – вмешался Мур, до этого момента лишь молчаливый, но благодарный слушатель их словесной баталии. Вследствие безразличия к политике своего времени и местным сплетням он сохранял полную безучастность, что делало его вполне непредвзятым арбитром. – Вы достаточно избичевали друг друга и выказали самую искреннюю неприязнь и презрение. Что касается меня, то я ненавижу тех, кто разломал мои станки, и тратить силы на споры с друзьями или на обсуждение абстрактных вопросов вроде веры или политики правительства не намерен. Джентльмены, вы оба выставили себя в весьма невыгодном свете – оказались хуже, чем я о вас думал. Вряд ли я теперь отважусь оставаться под крышей бунтаря и богохульника вроде вас, мистер Йорк, да и возвращаться домой в компании столь жестокого и деспотичного пастыря как мистер Хелстоун мне тоже представляется рискованным.
– Мур, я действительно ухожу, – сурово заявил священник. – Со мной вы или нет – воля ваша.
– Ну нет, пусть уж отправляется с вами, – заметил Йорк. – Время за полночь, и я не потерплю в своем доме никого ни минутой дольше! Вам пора. – Он позвонил в колокольчик. – Деб, – велел Йорк служанке, – выведи ребят из кухни, запри двери и ложись спать. Джентльмены, вам сюда, – обратился он к гостям и, посветив в холле, выпроводил их через парадный вход.
Тем временем с черного хода гурьбой вывалились работники, которых тоже поспешно выставили. Лошади ждали их у ворот, негодующий Хелстоун и посмеивающийся Мур сели верхом и уехали.
Глава 5. Дом у лощины
Бодрость духа не покинула Мура и на следующее утро. Вместе с Джо Скоттом он заночевал в конторе на фабрике, воспользовавшись спальными принадлежностями, извлеченными из разных укромных уголков. Хозяин всегда был ранней пташкой, но в то утро встал раньше обыкновения. Он разбудил Джо французской песенкой, которую напевал, приводя себя в порядок.
– Так вы не унываете, хозяин? – воскликнул Джо.
– Ни на грош,mon garcon, что значит «мой друг»! Поднимайся, и давай пройдемся по фабрике, пока не пришли рабочие, – хочу поделиться с тобой планами на будущее. Станки мы все равно раздобудем, Джо! Слышал когда-нибудь о Брюсе?
– Вы про ту легенду, где паук научил короля не сдаваться? Еще бы. Читал я историю Шотландии, и знаю ее не хуже вашего. Значит, мы тоже проявим упорство?
– Еще бы!
– И много таких упорных на вашей родине?
– Вот как! И что у меня за родина, по-твоему?
– Конечно же, Франция – или нет?
– Разумеется, нет! Факт, что французы захватили Антверпен, где я родился, вовсе не делает меня французом.
– Тогда Голландия?
– Я не голландец. Теперь ты путаешь Антверпен с Амстердамом.
– Фландрия?
– Джо, что за инсинуации? Я фламандец? Разве у меня лицо фламандца – несуразный нос торчком, узкий лоб с залысинами, водянистые глазкиà fleur de tête?[21] Или у меня короткие ноги и длинное тело, как у фламандца? Ты даже не знаешь, как выглядят жители Нидерландов, Джо! Я уроженец Антверпена. Там родилась моя мать, а в роду у нее были французы, поэтому я и говорю по-французски.
– Отец ваш из Йоркшира, вы и сами немного йоркширец. Сразу видно, что вы нам не чужой, потому как ловко зашибаете деньгу и ломитесь напролом.
– Джо, ты наглый пес, но к хамству мне не привыкать! Так называемыйclasse ouvrière – то есть трудовой люд в Бельгии – настоящие дикари, и со своими работодателями они держатся – как это будет по-английски? В общем, brutalement – можно перевести как «необузданно».
– В этой стране мы всегда говорим то, что думаем, и потому юные кураты да всякие знатные господа из Лондона шарахаются от нашей, так сказать, сиволапости. А нам просто нравится их оглоушивать и глядеть, как они закатывают глаза, вскидывают руками, будто с них живьем шкуру сдирают, да еще повторяют как заведенные: «Ах, ох! Что за дикари! Что за манеры!»
– Так вы и есть дикари, Джо. Неужели ты считаешь себя цивилизованным человеком?
– Я-то? Нет, хозяин, я середнячок. Полагаю, фабричные парни на севере смышленее, нежели трудяги земледельцы на юге. Ремесло развивает ум, на механике волей-неволей поумнеешь, как я. Знаете, следя за машинами, я дошел до того, что гляжу на результат и мгновенно вижу его причину, и сразу за нее хватаюсь. Вдобавок люблю почитать, и меня занимает, что там для нас поделывает наше правительство или что оно вытворяет с нами. А ведь есть парни и поумнее меня – среди перепачканных машинной смазкой ребят или среди красильщиков с сине-черными руками попадаются головастые, которые в законах разбираются не хуже, чем вы или старый Йорк, и гораздо лучше, чем простофиля Кристофер Сайкс из Уиннбери или хамло вроде Питера-ирландца, курата Хелстоуна.
– Похоже, ты и себя считаешь парнем смышленым, Скотт.
– Ха! Я-то уж смогу отличить творог от мела и прекрасно знаю, что не зарыл свои таланты в землю, как бы ни задирали нос те, кто мнит себя повыше меня. Да только у нас в Йоркшире тысячи парней ничуть не хуже, и две трети таких, что поумнее меня будут.
– Да уж, человек ты выдающийся и достоинств в тебе хоть отбавляй, но при этом самодовольный зануда и спесивый дурень! Не думай, что, нахватавшись по верхам прикладной арифметики в конторе и отыскав пару скудных азов химии на дне красильного чана, ты стал гениальным ученым. Торговля не всегда идет гладко, и поэтому такие, как ты, порой сидят без работы и без куска хлеба, только вам не следует считать себя мучениками под игом никудышного правительства. Скажу более: даже не предполагай, будто добродетели навсегда покинули крытые черепицей особняки и поселились под соломенными крышами. Смею тебя заверить, подобного вздора я терпеть не могу, поскольку прекрасно знаю, что человеческая природа везде остается себе верна, будь то под черепицей или под соломой, и в каждом ее представителе, который еще дышит, есть и пороки, и добродетели, пусть и в разных пропорциях, ведь зависит это вовсе не от места проживания. Видел я злодеев богатых, бедных, а также тех, кто ни богат, ни беден, потому как претворяет в жизнь желание Агари и живет в скромном достатке. Часы вот-вот пробьют шесть. Хватит болтать, Джо, пора звонить в фабричный колокол!
Была середина февраля, и к шести часам забрезжил рассвет, касаясь бледным лучом бурого мрака зимней ночи и придавая густым теням прозрачности. В то утро луч был особенно блеклым: на востоке не появилось ни отсвета, краски ничуть не потеплели. День медленно поднял тяжелые веки, бросил тусклый взгляд на окрестные холмы, будто ливень прошлой ночи совсем погасил огонь солнца. Дыхание утра оказалось таким же неприветливым, как и его вид: сырой ветер развеял ночные тучи и явил миру бесцветное, отливающее серебром кольцо по всему горизонту и гряды палевых слоистых облаков вдалеке. Дождь прекратился, но земля была еще сырая, всюду стояли лужи, ручьи набухли от воды.
В окнах фабрики горел свет, колокол громко звонил, и детишки торопливо спешили к зданию. Будем надеяться, что они не слишком замерзли, и утро показалось им даже приветливым, ведь порой бедняжкам случается идти на работу в метель, в проливной дождь или в мороз.
Мистер Мур стоял на входе, наблюдал и считал проходивших мимо детей. Тех, кто припозднился, ругал за опоздание; затем на них накидывался Джо Скотт, уже на рабочем месте. Ни хозяин, ни мастер не лютовали. Они вовсе не были людьми жестокими, хотя, пожалуй, казались суровыми, потому что оштрафовали правонарушителя, явившегося позднее всех. Мур взыскал с него пенни и пригрозил, что в следующий раз опоздание обойдется ему в два пенса.
В подобных случаях правила, несомненно, необходимы, а грубые и жестокие хозяева принимают грубые и жестокие меры, которые во времена, о коих мы тут рассказываем, применялись весьма деспотично. Однако, хоть я и описываю персонажей неидеальных (каждый персонаж в этой книге несовершенен в той или иной степени, поскольку мое перо отказывается выводить образцовые линии), я не стану иметь дело с личностями, вконец опустившимися или совсем скверными. Мучителей детей, рабовладельцев и погонщиков рабов я отдаю в руки правосудия. Романисту вполне можно простить нежелание пачкать свои страницы их гнусными выходками.
Вместо того чтобы терзать душу читателя и поражать его сердце эффектными описаниями порки и прочих телесных наказаний, я с радостью сообщаю, что ни мистер Мур, ни его мастер не ударили ни единого ребенка на своей фабрике. Конечно, однажды Джо высек родного сына за вранье и запирательство, однако, как и его работодатель, будучи человеком невозмутимым и спокойным, а вдобавок и разумным, прибегал к телесным наказаниям лишь в исключительных случаях.
Мур метался по своей фабрике, по двору, по красильне и складу, пока рассвет наконец не перешел в день. Даже солнце изволило встать – в небе возник абсолютно бесцветный диск, похожий на кусок льда. Он заглянул за вершину темного холма, посеребрил краешек свинцового облака над ней и мрачно обозрел ущелье, точнее, узкую долину, в которой мы сейчас находимся. Пробило восемь, огни на фабрике потушили. Начали звонить к завтраку, и дети, на полчаса освобожденные от тяжкого труда, потянулись к жестянкам с кофе и корзиночкам с хлебом. Давайте надеяться, что еды у них вдоволь, иначе нам будет их очень жаль.