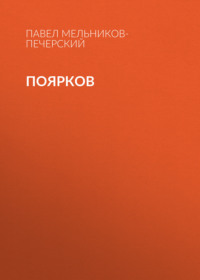Полная версия
В лесах
Засылал стороной Яким Прохорыч к Чапурину, узнавал через людей, какие мысли насчет дочери держит он, даст ли ей благословенье за него замуж пойти.
– Не по себе Яким дерево клонит, – отвечал сватам Чапурин. – Бог даст, сыщем зятя почище его. Наш товар вам не к руке, в ином месте поищите.
А как сваты уехали из Осиповки, крикнул к себе Чапурин Матренушку. Спрашивает: как узнал ее Яким Стуколов, где видались они, про какие дела разговоры вели?
Зарделась Матренушка – кумач-кумачом. Слова не может вымолвить. Слезы так и брызнули из очей ее.
– Сказывай!.. Все по ряду сказывай!.. – говорил отец, сурово глядя на Матренушку. Дрожал и обрывался от гнева голос его.
Стоит Матрена Максимовна, как к земле приросла. Молчит, как неживая.
– Говори же, бесстыжая! – закричал Чапурин, схватив дочку за руку. – Говори, не то разражу…
И поднял увесистый кулак над белокурой головкой дочери…
– Батюшка! – крикнула Матренушка и без чувств упала к отцовским ногам.
Поглядел на помертвевшую дочь Максим Чапурин, плюнул и велел работнику лошадей запрягать.
Через час времени он уж вез ее в Комаровский скит.
Там у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдал Максим Чапурин дочь свою с рук на руки.
– Береги ты ее, мать Платонида, – говорил он сестре на прощанье. – Глаз не спускай с нее. Чтоб из кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала и чтоб к ней никто не ходил.
В оба гляди, чтобы грамоток к ней не переносили, чтоб сама не писала. Ни пера, ни бумаги чтоб в заводе у ней не бывало… Сбережешь девку, попомню добро твое, – останешься довольна… Сундук с поклажей, перину с подушками вели взять из саней, да вот тебе покаместь четвертная девке на харчи… А в келарню не пускай ее, пусть в келье обедает и ужинает… А это тебе, матушка…
Разложил на столе подарки: сукна на шубу, черный платок драдедамовый, китайки на сарафан, икры бурак, сахару голову, чаю фунт, своих пчел меду.
Мать Платонида не знает, как благодарить тороватого братца, а у самой на уме: «Полно теперь, мать Евсталия, платком своим чваниться. Лучше моего нет теперь во всей обители. А как справлю суконную шубу на беличьем меху, лопнешь от злости, завидущие глаза твои».
– Смотри же, мать Платонида, сбереги Матрену, – продолжал Максим Чапурин. – Коим грехом не улизнула бы… Слышишь?
– Слушаю, братец, слушаю, кормилец ты мой, – отвечала Платонида. – Все будет по приказу исполнено. Птице к окошку не дам подлететь, на единую пядь не отпущу от себя Матренушку, келарничать пойду – на замок запру.
– И хорошее дело, – ответил Чапурин. – В самом деле, запирай-ка ее на замок. Надежнее.
– Да что ж это, братец? – спросила наконец мать Платонида. – Аль провинилась у тебя чем Матренушка?
– Большой провинности не было, – хмурясь и нехотя отвечал Чапурин, – а покрепче держать ее не мешает… Берегись беды, пока нет ее, придет, ни замками, ни запорами тогда не поможешь… Видишь ли что? – продолжал он, понизив голос. – Да смотри, чтоб слова мои не в пронос были.
– Чтой-то ты, братец! – затараторила мать Платонида. – Возможное ли дело такие дела в люди пускать?.. Матрена мне не чужая, своя тоже кровь. Вот тебе Спас милостивый, Пресвятая Богородица троеручица – ни едина душа словечка от меня не услышит.
– То-то, смотри, – молвил Чапурин. – Девка молодая, из себя красовита, хахалишка один пришатился к ней… Так, дрянь, голытьба решетная… у самого за душой отродясь железного гроша не бывало, и туда же свататься лезет… Я его сватам оглобли-то поворотил… Вдругорядь не заглянут… Да это что, пустяки, а вот что гребтится мне, матушка: Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того хахаля замуж идти: боюсь, чтоб он не умчал ее, не повенчался б «уходом»… Кажись, легче живому в гроб лечь: больно уж он противен душе моей!.. Встретил бы его, кажется, так бы на месте и положил… А в деревне, сама рассуди, можно разве девку ухоронить?.. Вороват стал народ: умчит ее пес, как пить даст… Так я и рассудил: до поры до времени пусть ее погостит у тебя, дурь-то пока из головы у ней выйдет… Сможешь ли такое дело сделать?
– Как такого дела не сделать? – отозвалась Платонида. – Чужим делывала, не то что своим. У нас в обители на этот счет крепко!.. В позапрошлом году у меня тоже двух девок от «уходу» хоронили: Авдонинских Лукерью да Матюшину Татьяну Сергевну… Ублюла, слава те Господи… Уж каких подвохов они ни подводили, а, слава Богу, ухоронила… Матюшина-то, бывало, – беда!.. И давиться-то хотела, и подушками-то душила себя, и мышьяком травиться было вздумала, а никакого дурна над ней не случилось… Ублюла, братец, ублюла… На этот счет будьте спокойны… А ты вели-ка ей, сударь, преподобному Моисею Мурину молиться; зело избавляет от блудные страсти.
– Молитесь, кому знаете, – отвечал Чапурин. – Мне бы только Мотря цела была, до другого прочего дела нет… Пуще всего гляди, чтоб с тем дьяволом пересылок у ней не заводилось.
– Одно слово: будьте спокойны, братец, – сказала мать Платонида. – Сохраню Матренушку в самом лучшем виде… А кто же таков злодей-то?.. Мне надо знать, чтобы крепче опаску держать… Кто таков полюбовник-от у ней?
– Уж и полюбовник! – гневно крикнул Чапурин, грозно вскинув глазами на старицу. – Говори, да не заговаривайся… Никакого полюбовника нет. Так себе, шальная голова, и все… Стуколовых слыхала?
– Как не знать Стуколовых, – отвечала мать Платонида. – Семен Ермолаич благодетель нашей обители.
– Племянник ихний, Якимко, – молвил Чапурин. – Чтоб близко к скиту не подходил он… Слышишь?
– Слышу, батюшка братец, как не слыхать? – сказала Платонида. – Знаю я Якимку. Экой вор такой!.. А еще все о Божественном – книгочей… Поди-ка вот с ним, какими делами вздумал заниматься!
Неласково расстался Чапурин с дочерью. Сулил плети ременные, вожжи варовенные… Как смертный саван бледная, с опущенными в землю глазами, стояла перед ним Матренушка, ни единого словечка она не промолвила.
Заперли рабу Божию в тесную келийку. Окроме матери Платониды да кривой старой ее послушницы Фотиньи, никого не видит, никого не слышит заточенница… Горе горемычное, сиденье темничное!.. Где-то вы, дубравушки зеленые, где-то вы, ракитовые кустики, где ты, рожь-матушка зрелая – высокая, овсы, ячмени усатые, что крыли добра молодца с красной девицей?.. Келья высокая, окна-то узкие с железными перекладами: ни выпрыгнуть, ни вылезти… Нельзя подать весточку другу милому…
Мать из деревни приехала к Матренушке да сестра замужняя. Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Супротив отцовской воли как идти?
Хоть и заверял Платониду Чапурин, что за Матренушкой большой провинности нет, а на деле вышло не то… Платониде такие дела бывали за обычай: не одна купецкая дочка в ее келье девичий грех укрывала.
Не спознали про Матренушкин грех ни отец, ни сестра с братьями и никто из обительских, кроме матушки игуменьи да послушницы Фотиньи. Мастерица была хоронить концы мать Платонида.
Во время родов мать Платонида не отходила от Матренушки. Зажгла перед иконами свечу богоявленскую и громко, истово, без перерывов, принялась читать акафист Богородице, стараясь покрывать своим голосом стоны и вопли страдалицы. Прочитав акафист, обратилась она к племяннице, но не с словом утешения, не с словом участия. Небесной карой принялась грозить Матренушке за проступок ее.
– Что, тяжело? – язвила ее Платонида, стоя у изголовья. – На том свете не то еще будет!.. Весело теперь? Сладко?.. Погоди, не избежать тебе муки вечныя, тьмы кромешныя, скрежета зубного, червя бесконечного, огня негасимого!.. Огонь, жупел, смола кипучая, геенские томления… А это что за муки!
– Матушка!.. Родная ты моя!.. – упавшим голосом, едва слышно говорила девушка. – Помолись Богу за меня, за грешницу…
– Не доходна до Бога молитва за такую! – сурово ответила ей Платонида. – Теперь в аду бесы пляшут, радуются… Видала на иконе страшного суда, какое мученье за твой грех уготовано?.. Видала?.. Слушай: «Не еже зде мучитися люто, но о́на вечна мука страшна есть и самим бесом трепетна…» Готовят тебе крюки каленые!..
– Матушка! Матушка… прости ты меня Христа ради… Мне бы исправиться[27]… Смертный час приходит… Не переживу я…
– Неправой греха твоего не загладить… Многие годы слез покаянья, многие ночи без сна на молитве, строгий пост, умерщвление плоти, отреченье от мира, от всех соблазнов, безысходное житье во иноческой келье, черная ряса, тяжелы вериги… Вот чем целить грех твой великий…
– Матушка!.. Если Господь помилует меня… я готова… отрекусь от мира… ото всего… надену… черную рясу…
– Обещаешися ли? – спросила Платонида.
– Обещаюсь, – проговорила девушка.
– Обещаешися ли Христу?
– Обещаюсь…
– Принять ангельский образ иночества?
– Обещаюсь…
– Жить безысходно в обители?
– Обещ…
Громко, пронзительно, нечеловеческим голосом вскрикнула Матренушка… Стихла… Иной, тихий, слабенький человеческий голосок в Платонидиной келье раздался…
– Боже сильный, милостию вся строяй, – молилась вслух Платонида, обратясь к иконам, – посети рабу свою сию Матрену, исцели ю от всякого недуга плотского и душевного, отпусти грех ее, и греховные соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие приязненно…
Дочку Бог дал. Завернула ее Платонида в шубейку, отдала кривой Фотинье, а та мигом в соседнюю деревню Елфимову спроворила.
Там жил один мужичок, Григорий Ильич. Пряниками торговал и по скитам ребячьим делом заправлял: промысел тот не в пример был доходней пряничной торговли. У Ильича в избе ребенка обмыли, в пеленки уложили. Заложил Григорий лошадку – и в Городец. Дорожка давным-давно проторенная. В Городце редку неделю двух-трех подкидышей не бывало. И из скитов в Городец же, бывало, младенцев возил Григорий Ильич. Свезет, сдаст кому следует, а на деньги, что получил от честных матерей, городецких пряников накупит, жемков, орехов и продает их скитским белицам да молодым богомольцам. Выручку получал хорошую.
Елфимовский пряничник девочку сдал на часовенном дворе старице Салоникее. Большая была начетчица та черница – строгая постница, великая ревнительница по древлему благочестию: двенадцать попов на своем веку от церкви в раскол сманила. И тем также по бозе ревновала, чтоб городецких подкидышей непременно посолонь в старую веру крестить.
Делом не волоча, мать Салоникея снесла девочку к жившему при часовне беглому попу. Тот окрестил и нарек ей имя Фаина.
Мать Салоникея была восприемницей, часовенный уставщик Василий Баранов был восприемником.
Таково было рождение Фленушки…
В тот же день Салоникея, идучи от вечерни, увидала на часовенном дворе знакомую молодицу. Зазвала ее к себе, чайком попотчевала, водочкой, пряничками, а потом и стала ей говорить:
– Вот, Авдотьюшка, пятый год ты, родная моя, замужем, а деток Бог тебе не дает… Не взять ли дочку приемную, богоданную? Господь не оставит тебя за добро и в сей жизни и в будущей… Знаю, что достатки ваши не широкие, да ведь не объест же вас девочка… А может статься, выкупят ее у тебя родители, – люди они хорошие, богатые, деньги большие дадут, тогда вы и справитесь… Право, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе дело, возьми в дочки младенца Фленушку.
Авдотьюшка поговорила с мужем и согласилась принять богоданную дочку. И росла у нее Фленушка. Разлихая девчонка росла.
Из семейных о провинности Матрены Максимовны никто не узнал, кроме матери. Отцу Платонида побоялась сказать – крутой человек, насмерть забил бы родную дочь, а сам бы пошел шагать за бугры уральские, за великие реки сибирские… Да и самой матери Платониде досталось бы, пожалуй, на калачи.
Много и горько плакала мать над дочерью, не коря ее, не браня, не попрекая. Молча лила она тихие, но жгучие слезы, прижав к груди своей победную голову Матренушки… Что делать?.. Дело непоправимое!..
В ногах валялась она перед Платонидой и даже перед Фотиньей, Христом-Богом молила их сохранить тайну дочери. Злы были на спесивую Матренушку осиповские ребята, не забыли ее гордой повадки, насмешек ее над их исканьями… Узнали б про беду, что стряслась над ней, как раз дегтем ворота Чапурина вымазали б… И не снес бы старый позора, все бы выместил на Матренушке плетью да кулаками.
И Платонида и Фотинья перед иконой Казанской Богородицы поклялись свято хранить тайну. Начал положили, икону с божницы сняли и во свидетельство клятвы целовали ее перед Матренушкой и перед ее матерью.
Дня через три, по отъезде из скита старухи Чапуриной, к матушке Платониде из Осиповки целый воз подарков привезли. Послан был воз тайком от хозяина… И не раз в году являлись такие воза в Комарове возле кельи Платонидиной. Тайна крепко хранилась.
Хорошо обительской матушке-келейнице держать при себе богатенькую молоденькую родственницу. Как сыр в масле катайся! Всего вдоволь от благостыни родительской, а в обители почет большой. Матушки-келейницы пользуются всяким случаем, чтобы уговорить молоденькую девушку на безысходное житье в скиту.
Стала мать Платонида не по-прежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости! Не надивится Матренушка перемене в строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотоле тетке…
Тетенька своего достигла – птичка в сетях. Хорошо, привольно, почетно было после того жить Платониде. После матери игуменьи первым человеком в обители стала.
Оправясь от болезни, Матренушка твердо решилась исполнить данный обет. Верила, что этим только обетом избавилась она от страшных мук, от грозившей смерти, от адских мучений, которые так щедро сулила ей мать Платонида. Чтение Книги о старчестве, патериков и Лимонаря окончательно утвердили ее в решимости посвятить себя Богу и суровыми подвигами иночества умилосердить прогневанного ее грехопадением Господа… Ад и муки его не выходили из ее памяти…
Немало просьб, немало слез понадобилось, чтоб вымолить у отца согласие на житье скитское. И слышать не хотел, чтобы дочь его надела иночество.
– Лучше за Якима замуж иди, – сказал он Матрене после долгих, напрасных уговоров. – Хоть завтра пущай сватов засылает: хочешь, честью отдам, хочешь, «уходом» ступай.
Зарделась Матренушка. Радостью блеснули глаза… Но вспомнила обет, данный в страшную минуту, вспомнила мучения ада…
– Что ж, Мотря? – спрашивал отец. – Посылать, что ли, к жениху тайную весточку?
– Жених мой – царь небесный. Иного не знаю и не желаю, – твердо отвечала Матрена Максимовна.
Отец нахмурился и склонил голову. Немного подумав, сказал он:
– Ну, делай как знаешь… Прощай!
Целую ночь простояла на молитве девушка… Стоит, погружаясь глубже и глубже в богомыслие, но помысел мятежного мира все мутит душу ее. Встают перед душевными очами ее обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держит она на одной руке белокурую кудрявую девочку, другою обнимает отца ее, и сколько счастья, сколько радости в его ясных очах… Она чувствует жаркие объятья ее, его губы чувствуют горячий поцелуй мужа… Мужа?.. «Грядет мира помышление греховно, борют мя окаянную страсти», – шепчет она, дрожа всем телом. «Помилуй мя, Господи, помилуй мя! Очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую…»
И взяв бутылку из-под деревянного масла, стоявшую под божницей, разбила ее вдребезги об угол печи, собрала осколки и, став на них голыми коленами ради умерщвления плоти, стала продолжать молитву.
Матрену Максимовну взяла под свое крылышко сама мать игуменья и, вместе с двумя-тремя старухами, в недолгое время успела всю душу перевернуть в поблекшей красавице…
Вольный ход, куда хочешь, и полная свобода настали для недавней заточенницы. Но, кроме часовни и келий игуменьи, никуда не ходит она. Мерзок и скверен стал ей прекрасный Божий мир. Только в тесной келье, пропитанной удушливым запахом воска, ладана и деревянного масла, стало привольно дышать ей… Где-то вы, кустики ракитовые, где ты, рожь высокая, зыбучая?.. Греховно, все греховно в глазах молодой белицы…
Однажды, тихим летним вечером, вышла она за скитскую околицу. Без дела шла и сама не знала, как забрела к перелеску, что рос недалеко от обителей… Раздвинулись кустики, перед ней – Яким Прохорыч.
– Ясынька ты моя, ненаглядная!.. Радость ты моя!.. Голубушка!.. – рыдая и страстно дрожа всем телом, вскрикнул Стуколов. Стремительно бросился он к подруге.
Она остановилась… Глаза вспыхнули… Еще одно мгновение – и она была бы в объятиях друга… Но обет!.. Страшный суд, вечные муки!..
– Бес!.. Проклятый!.. – крикнула она, высоко подняв правую руку. – Прочь!.. Не скверни святого места!.. Прочь!..
– Матренушка!.. Милая!.. Разлапушка!.. Ведь это я… я… Аль не узнала?.. Вглядись хорошенько!
– Прочь, говорят тебе, – отвечала она. – Не знаю тебя… Змей, искуситель!.. Оставь!..
И спокойной поступью пошла к своей келье.
С того дня за Волгой не стало ни слуху ни духу про Стуколова.
Через три дня после этой встречи бледную, исхудалую девушку вели в часовню; там дали ей в руки зажженную свечу… Начался обряд… Из часовни вышла новоиспеченная мать Манефа…
С первого шага Манефа стала в первом ряду келейниц. Отец отдал ей все, что назначил в приданое, сверх того щедро оделял дочку-старицу деньгами к каждому празднику. Это доставило Манефе почетное положенье в скиту. Сначала Платонида верховодила ею, прошел год, другой, Манефа старше тетки стала.
Сделалась она начетчицей, изощрилась в словопрениях – и пошла про нее слава по всем скитам керженским, чернораменским. Заговорили о великой ревнительнице древлего благочестия, о крепком адаманте старой веры. Узнали про Манефу в Москве, в Казани, на Иргизе и по всему старообрядчеству. Сам поп Иван Матвеич с Рогожского стал присылать ей грамотки, сама мать Пульхерия, московская игуменья, поклоны да подарочки с богомольцами ей посылала.
Умерла Платонида, келья ее Манефе досталась. Стала она в ней полной хозяйкой, завися от одной только игуменьи матери Екатерины.
– Сиротку в Городце нашла я, матушка, – сказала она однажды игуменье. – Думаю девочку в дочки взять, воспитать желаю во славу Божию. Благословите, матушка.
Екатерина сидела за Кирилловой книгой. Медленно подняла она голову и, глядя через очки на Манефу, спросила:
– Велика ль девочка-то?
– Пять лет, шестой пошел, – отвечала мать Манефа.
– Пять лет… шестой… – медленно проговорила игуменья и улыбнулась. – Это выходит – она в тот год родилась, как ты в обитель вступила. Ну что ж! Бог благословит на доброе дело.
Смущенная словами Екатерины, Манефа побледнела как полотно и до земли поклонилась игуменье.
Григорий Ильич через несколько дней привез из Городца хорошенькую бойкую девочку Флену Васильевну.
Выросла Фленушка в обители под крылышком родной матушки. Росла баловницей всей обители, сама Манефа души в ней не слышала. Но никто, кроме игуменьи, не ведал, что строгая, благочестивая инокиня родной матерью доводится резвой девочке. Не ведала о том и сама девочка.
Прошло еще сколько-то лет, скончалась в обители игуменья мать Екатерина. После трехдневного поста собирались в часовню старицы, клали жеребьи за икону Пречистой Богородицы, пели молебный канон Спасу милостивому, вынимали жребий, кому сидеть в игуменьях.
Манефе жребий вынулся. В ноги ей вся обитель разом поклонилась, настоятельский жезл ей поднесли и с пением духовных песен повели ее в игуменские кельи…
Разумно и правдиво правила Манефа своей обителью. Все уважали ее, любили, боялись. Недругов не было. «Давно стоят скиты керженские, чернораменские, будут стоять скиты и после нас, а не бывало в них такой игуменьи, как матушка Манефа, да и впредь вряд ли будет». Так говорили про Манефу в Комарове, в Улангере, в Оленеве и в Шарпане и по всем кельям и сиротским домам скитов маленьких.
Обительские заботы, чтение душеполезных книг, непрестанные молитвы, тяжелые труды и богомыслие давно водворили в душе Манефы тихий, мирный покой. Не тревожили ее воспоминания молодости, все былое покрылось забвением. Сама Фленушка не будила более в уме ее памяти о прошлом. Считая Якима Прохорыча в мертвых, Манефа внесла его имя в синодики постенный и литейный на вечное поминовение.
И вдруг нечаянно, негаданно явился он… Как огнем охватило Манефу, когда, взглянув на паломника, она признала в нем дорогого когда-то ей человека… Она, закаленная в долгой борьбе со страстями, она, победившая в себе ветхого человека со всеми влеченьями к миру, чувственности, суете, она, умертвившая в себе сердце и сладкие его обольщения, едва могла сдержать себя при виде Стуколова, едва не выдала людям давнюю, никому не ведомую тайну.
Слушая длинный рассказ паломника, Манефа духовно утешалась и радовалась. «Благодарю тебя, Господи, – мысленно говорила она, – о твоих благодеяниях, милостиво на нас бывших. Не погнушался еси нашею скверною и грешника сего суща воздвигнул еси потрудитися и послужити во славу имени твоего!»
Нелицемерен был поклон ее перед бывшим полюбовником. Поклонилась она не любовнику, а подвижнику, благодарила она трудника, положившего душу свою на исканье старообрядского святительства… Ни дубравушки зеленые, ни кусты ракитовые не мелькнули в ее памяти…
Но едва отошла от паломника, все ей вспомнилось… Бежать, бежать скорей!..
Бежать не удалось… Патап Максимыч помешал… Надо жить под одной кровлею с ним… И Фленушка тут же… Бедная, бедная!.. Чует ли твое сердечушко, что возле тебя отец родной!
Стоит Манефа перед темными ликами угодников, хочет читать – не видит, хочет молиться – молитва на ум нейдет…
– Просвети ум мой, Господи, – шепчет она, – очисти сердце мое!..
А в ушах звучат то веселые звуки деревенского хоровода, то затейный хохот на супрядках, то тихий, ласкающий шепот во ржах…
Затряслась всем телом Манефа…
– О Господи, Господи! – шептала она, взирая на икону Спаса. И холодная, как лед, без памяти, без сознания, тихо опустилась на помост моленной.
Глава четырнадцатая
На другой день столы работникам и народу справлялись. В горницах весело шел именинный пир. Надивиться не могли Снежковы на житье-бытье Патапа Максимыча… В лесах живет, в захолустье, а пиры задает, хоть в Москве такие.
Провожая Снежковых, Патап Максимыч не только не повел речи про сватовство, но даже намека не сделал, а когда на прощанье Данило Тихоныч завел было речь о том, Патап Максимыч сказал ему:
– Не раненько ль толковать об этом, Данило Тихоныч? Дело-то, кажись бы, не к спеху. Время впереди, подождем, что Бог пошлет. Есть на то воля Божья, дело сделается, нет – супротив Бога как пойдешь?
– Оно, конечно, воля Божия первей всего, – сказал старый Снежков, – однако ж все-таки нам теперь бы желательно ваше слово услышать, по тому самому, Патап Максимыч, что ваша Настасья Патаповна оченно мне по нраву пришлась – одно слово, распрекрасная девица, каких на свете мало живет, и паренек мой тоже говорит, что ему невесты лучше не надо.
– На добром слове покорно благодарим, Данило Тихоныч, – отвечал Патап Максимыч, – только я так думаю, что если Михайло Данилыч станет по другим местам искать, так много девиц не в пример лучше моей Настасьи найдет. Наше дело, сударь, деревенское, лесное. Настасья у меня, окроме деревни да скита, ничего не видывала, и мне сдается, что такому жениху, как Михайло Данилыч, вряд ли она под стать подойдет, потому что не обыкла к вашим городским порядкам.
– Это не беда. Долго ль приобыкнуть! – возразил Снежков. – Нет уж, вы напрямик скажите, Патап Максимыч, можно нам надеяться аль не можно?
– Да чего же тут надеяться-то? – говорил Патап Максимыч. – От меня ни отказу, ни приказу нет. Ведь хоша у нас с вами, Данило Тихоныч, и были разговоры, так ведь это так… Мало ль что за столиком с рюмочками промеж приятелей говорится. Вы не всяко лыко в строку пускайте!.. Опять же было у нас с вами говорено так: если делу тому сделаться, так разве на ту зиму. Стало, и будем ждать той зимы. Там что Господь укажет… А все ж моя Настасья не порогом поперек вам стала, ищите где лучше и на мне не взыщите, коли до той поры Настасье другой жених по мысли найдется. Я воли с нее не снимаю, у девки свой разум в голове, – сама должна о судьбе своей рассудить.
– Как же это понимать надобно, Патап Максимыч? – немного помолчав, спросил Снежков. – Ведь это значит отказ, как длинный шест.
– Где же тут отказ, Данило Тихоныч? – сказал Патап Максимыч. – Никакого отказу вам от меня… Отказ бывает, когда сватовство идет, а разве у нас сватовство в настоящем виде, как следует, было? Разговоры только были. По-приятельски поболтали от нечего делать… Да и тут было сказано – до зимы ожидать… Там, опять-таки говорю я вам, увидим, что Бог даст… И отказывать не отказываю, и обещать не обещаю… Опять же надо прежде Настасью спросить, ведь не мне жить с Михайло Данилычем, а ей: с дочерей я воли не снимаю, хочет – иди с Богом, а не хочет – неволить не стану.
– Помнится мне, в Городце не такие речи я слышал от вас, Патап Максимыч? – с усмешкой промолвил Снежков. – Тогда было, кажись, говорено: «Как захочу, так и сделаю».