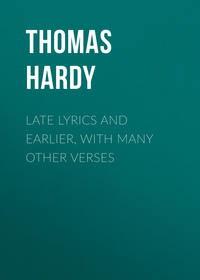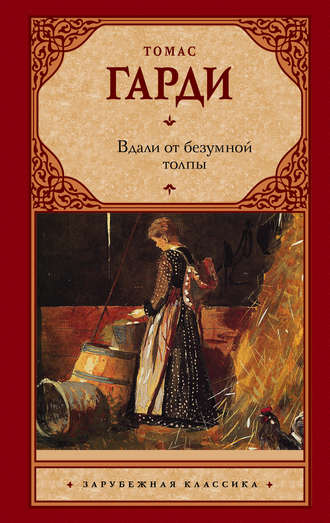
Полная версия
Вдали от безумной толпы
Какой-то неясный звук несколько раз кряду с обескураживающей монотонностью пронзил пространство, заполненное снежным пухом. Это часы на ближайшей башне пробили десять. Колокол, густо облепленный снегом, утратил свой всегдашний голос.
Между тем снегопад пошел на убыль: двадцать падающих снежинок сменились десятью, а десять – одной. Вскоре к берегу реки приблизился некий предмет. По его очертаниям на бесцветном фоне внимательный глаз мог угадать фигуру человека, идущего медленно, но без видимого усилия: слой внезапно выпавшего снега не превысил еще двух дюймов в толщину. Послышались вслух произнесенные слова: «Раз. Два. Три. Четыре. Пять», после каждого из которых предмет продвигался на полдюжины ярдов вперед. Теперь стало ясно, что подсчитываются окна. Достигнув пятого окна от края стены, и без того маленькая фигура сделалась еще меньше, очевидно нагнувшись. Ком снега перелетел через реку и шлепнулся о стену, не достигнув цели. В этом броске мужской замысел соединился, очевидно, с женским исполнением. Любой мужчина, видавший в детстве птиц, кроликов или белок, кинул бы снежок гораздо ловчее. Одна попытка следовала за другой, пока стена не покрылась белыми следами. Наконец комок снега ударился о пятое окно.
При свете дня было бы видно, что река, отделяющая тропу от стены, глубока и ровна. На середине и возле берегов она скользит с одинаковым проворством, поскольку небольшие воронки, возникая то тут, то там, сглаживают всякие различия. На поданный сигнал не ответил ни единый звук. Слышалось лишь неизменное журчанье и клокотание, дополняемое каким-то тихим шумом: печальный человек сравнил бы его со стонами, а счастливый – со смехом, в действительности же это был стук невидимых водяных колес о мелкие преграды дальше по течению.
Комок снега снова ударил в стекло. На сей раз последовал звук, сопровождавший, по всей вероятности, открывание окна. Затем донесся голос:
– Кто там?
Вопрошавший был мужчиною и не казался удивленным. Поскольку стена принадлежала казарме, а к супружеству в армии относятся с неодобрением, уже не одно тайное свидание, возможно, устроилось в тот вечер подобным образом.
– Сержант Трой? – боязливо спросила фигура, неясно темневшая на заснеженном берегу.
Сама она походила на тень, а мужской голос сливался с постройкой; получалось, что снег говорит со стеною.
– Да, – настороженно ответили из темноты. – Тебе чего?
– О, Фрэнк! Неужто ты меня не узнаешь? Я Фэнни Робин, твоя жена!
– Фэнни?! – воскликнула стена в полнейшем недоумении.
– Да, – ответила девушка, сдерживая волнение.
В ее голосе слышалось нечто, не присущее женам, а мужчина говорил таким тоном, каким редко разговаривают мужья. Беседа продолжалась:
– Как ты меня отыскала?
– Спросила, которое окно твое. Не сердись!
– Сегодня я тебя не ждал. По правде, я совсем не думал, что ты придешь. Ты могла меня и не найти. Завтра я дежурный.
– Ты сам говорил, чтоб я пришла.
– Я сказал, ты могла бы…
– Ну да. Ты рад мне, Фрэнк?
– О да. Рад.
– Ты выйдешь?
– Не могу, дорогая Фэн! Уже протрубили отбой, ворота закрыли, увольнительной у меня нет. До завтрашнего утра мы все заперты здесь, точно в тюрьме.
– Так значит до завтра я тебя не увижу! – Голос девушки разочарованно дрогнул.
– Как ты попала сюда из Уэзербери?
– Пешком. То есть часть пути прошла пешком, остальное проехала на возах.
– Удивила ты меня.
– Да я и сама удивилась. Фрэнк, а когда это будет?
– Что?
– То, что ты обещал.
– Чего-то не помню.
– Помнишь! Не притворяйся, не мучь меня! Мне совестно первой говорить то, что должен говорить мужчина.
– А ты скажи. Это ничего.
– Я? Ну изволь… Когда мы поженимся, Фрэнк?
– Вот ты о чем… Что ж, сперва добудь хорошую одежду.
– Деньги у меня есть. А мы поженимся по объявлению или по лицензии?
– По объявлению, наверное.
– Мы ведь в разных приходах живем.
– Да? И что с того?
– О нашей помолвке должны будут в обеих церквях объявить: в моей, Святой Марии, и в твоей.
– Это закон такой?
– Да. О, Фрэнк, выходит, я тебе навязываюсь?! Прошу, дорогой Фрэнк, не думай обо мне дурно, я ведь так тебя люблю! И ты столько раз обещал на мне жениться, и я… я… я…
– Ах, не плачь теперь! Это глупо! Женюсь, раз обещал.
– Так я объявлю о нашей свадьбе в своем приходе, а ты в своем?
– Да.
– Завтра?
– Нет, не завтра. Мне нужно несколько дней.
– Ты получил разрешение у начальников?
– Нет, пока нет.
– Как? Ты же еще в Кестербридже сказал, что оно у тебя почти в кармане?
– Видишь ли, я забыл спросить. Ты явилась так нежданно!
– Да, да, мне не следовало беспокоить тебя. Сейчас я уйду. А ты навестишь меня завтра у миссис Твиллс на Норт-стрит? Я бы не хотела снова приходить сюда. Тут кругом дурные женщины. Люди подумают, будто я одна из них.
– И верно, милая, не приходи. Уж лучше я к тебе. Доброй ночи.
– Доброй ночи, Фрэнк, доброй ночи!
Снова послышалось дребезжание окна: теперь оно закрылось. Маленькая фигурка зашагала прочь. Когда она миновала угол здания, из-за стены донеслось приглушенное восклицание: «Хо-хо, сержант! Хо-хо!» Затем последовали слова, произнесенные тоном увещевания, однако они потонули в хохоте, едва отличимом от бульканья маленьких водоворотов в реке.
Глава XII
Фермеры. Правило. Исключение
Первым наглядным доказательством того, что Батшеба в самом деле вознамерилась управлять фермою самолично, а не через поверенного, стало ее появление на кестербриджском хлебном рынке в ближайший базарный день.
Просторный зал с низким потолком, опиравшимся на балки и колонны, с недавних пор гордо именовался зерновой биржей. Сейчас здесь толпились люди, разгоряченно переговариваясь друг с другом в парах и тройках: ораторы искоса поглядывали на лица слушателей и, дабы усилить действенность своих слов, прищуривали один глаз. Многие держали в руках ясеневые трости, используемые для опоры при ходьбе, а также для того, чтобы тыкать свиней, овец, спины ближних и прочие предметы, которые мешались на пути, тем самым заслуживая такого обращения. В продолжение делового разговора гибкую палку употребляли весьма разнообразно: кто-то закидывал ее за плечи, кто-то сгибал наподобие лука, кто-то упирался ею в пол и так налегал, что она принимала форму полумесяца. Или же трость небрежно зажималась под мышкой, а в ладонь тем временем сыпалась пшеница из мешочка, вскрытого для образца. После критического изучения зерно бросали на пол, к радости сметливых городских птиц, которые потихоньку проникали под крышу и ждали осуществления своих надежд, вытянув шеи и кося глазами.
По залу, полному дородных йоменов, скользила всего одна женская фигура. Одетая нарядно и даже изысканно, она лавировала среди мужчин, как легкий экипаж среди телег. В гуле голосов ее голос казался серенадой после проповеди, а движения ее казались бризом, обдувающим плечи. Чтобы прийти сюда, Батшебе потребовалось куда больше решимости, чем она предполагала. Стоило ей появиться на пороге, как басовитые разговоры стихли, и едва ли не все лица обратились к ее лицу (те, которые уже обращены были в сторону двери, просто застыли).
Из всех собравшихся фермеров Батшеба знала только двоих или троих. К ним она и направилась в первую очередь. Но чтобы показать себя женщиной деловой, новоиспеченной хозяйке поместья следовало заняться делом, а именно предлагать вопросы и отвечать на них, невзирая на то, кто из присутствующих мужчин представлен ей, а кто нет. Мало-помалу набравшись смелости для ведения разговора, Батшеба, кроме того, наловчилась сыпать зерна из чужого пробного мешочка (при ней имелись такие же свои) в узкую ладонь и разглядывать их с видом заправского кестербриджского фермера. Споря с едва знакомыми ей рослыми мужчинами, она смело подымала голову, и в плавной линии ее крепких зубов, в приподнятых уголках разомкнутых алых губ ощущалось нечто, красноречиво говорившее: в этом гибком маленьком существе довольно сил, чтобы осуществлять замыслы, весьма дерзкие для прекрасного пола. Но благодаря мягким, неизменно мягким глазам, которые, не будь они темны, были бы туманными, смелое лицо казалось не резким, а ясным.
При разговоре Батшеба всегда позволяла собеседнику закончить мысль, прежде чем высказывала собственную, – необычное свойство для женщины в расцвете сил. Она держала цену своего товара, как прирожденный продавец, а цену чужого постепенно сбавляла с истинно женским упорством. Однако в ее манере вести торг ощущалась податливость, не позволявшая настойчивости перерасти в упрямство, и наивность, не позволявшая бережливости скатиться до скупости.
Фермеры, которым еще не довелось самим беседовать с Батшебой (таких покамест было большинство), спрашивали других:
– Кто она?
– Племянница фермера Эвердина, – отвечали им. – Унаследовала его поместье близ Уэзербери, прогнала управляющего и намерена верховодить сама.
Некоторые только качали головами, а другие говорили:
– Экая упрямица! И все же славно, что она здесь. Украшает этот старый сарай. Правда, недолго ей его украшать: девица хоть куда, не сегодня завтра замуж выйдет.
Учтивости ради не станем предполагать, что магнетизм Батшебы объяснялся не только красотою ее лица и грациозностью движений, но и почти в той же мере тем, сколь необычна для девушки принятая ею роль. Отметим лишь, что интерес к ней был всеобщим, и каковы бы ни оказались ее успехи по части купли-продажи зерна, как женщина она испытала в тот субботний день несомненный триумф. Торжество ощущалось Батшебой столь остро, что временами ей хотелось позабыть о ценах и просто шествовать среди этих богов земледелия, подобно миниатюрной сестре миниатюрного Юпитера.
Многочисленные свидетельства ее способности пленять мужчин можно было назвать правилом, которое лишь подтверждалось единственным исключением. Такие исключения обыкновенно подмечаются женщинами с поразительною зоркостью – будто ленты, украшающие их головки, имеют собственные глаза. Посему Батшеба без всякого усилия, почти не приглядываясь, приметила в стаде черную овцу.
Сперва открытие озадачило прекрасную фермершу. Если бы никто не обратил на нее особого внимания (подобное прежде случалось), она перенесла бы это невозмутимо. Если ли бы все до единого были ею очарованы (случалось и такое), она приняла бы фурор как должное. Если бы равнодушные или восхищенные образовали сколько-нибудь существенное меньшинство, это было бы естественно. Однако единственность исключения казалась загадкою.
Вскоре Батшеба составила кое-какое мнение о наружности диссидента. Одет он был как джентльмен, имел римские черты, крупные и четкие, кожа в лучах солнца отливала бронзой. Незнакомец держался прямо, разговаривал спокойно. Главным свойством, его отличавшим, было достоинство. Очевидно, он достиг уже среднего возраста, перейдя рубеж, после которого облик мужчины на дюжину годов обретает естественную неизменность, а облик женщины – неизменность искусственную. Тридцать пять и пятьдесят лет – крайние вехи этой поры. Незнакомец мог стоять близ одной из них или же между ними.
Следует отметить, что если сорокалетний мужчина женат, он, как правило, склонен щедро одаривать мимолетными взглядами всех мало-мальски миловидных особ женского пола, каких только встречает на своем пути. Вероятно, для отца семейства флирт подобен игре в вист на интерес: как ни ляжет карта, платить не придется, и сознание этого благоприятствует живейшей симпатии к дамам. Батшеба твердо заключила, что равнодушный незнакомец холост.
Едва торг закончился, она поспешила к Лидди, ожидавшей ее возле желтой двуколки, которая привезла их в город. Лошадь запрягли, покупки – сахар, чай, ткани для занавесей – уложили сзади. Цвет, размер и очертания этих свертков неуловимо свидетельствовали о том, что теперь это не товар бакалейщика или торговца мануфактурой, а имущество молодой помещицы.
– Поздравь меня, Лидди, – сказала Батшеба, когда повозка тронулась. – Дело сделано. Я не прочь приехать сюда еще. В другой раз будет легче, ведь теперь все ко мне попривыкли. Хотя сперва это было похуже свадьбы – с ног до головы меня оглядели.
– Так я и знала, – ответствовала Лидди. – Мужчины большие негодники по части того, чтобы глаза пялить.
– Нашелся один разумный, который не стал тратить времени на этакий вздор, – сказала хозяйка, подобрав слова, из которых не следовало бы слишком явно, что она уязвлена. – Хорош собой, осанист. Лет, наверное, около сорока. Не знаешь, кто бы это мог быть?
Лидди не знала.
– А ты подумай хорошенько! – произнесла Батшеба с досадой.
– Ума не приложу! Да и зачем вам, коли он меньше других на вас глядел? Вот если бы больше, это другое дело!
Хозяйка остро ощутила нечто противоположное тому равнодушию, к какому призывала ее служанка, и между женщинами воцарилось долгое молчание. Лишь когда их двуколку обогнал невысокий экипаж, запряженный великолепной породистой лошадью, Батшеба воскликнула:
– Да вот же он!
Лидди поглядела вслед проехавшему мимо.
– Так это фермер Болдвуд! Ну да, он! Тот, которого вы давеча не приняли.
– Ах, фермер Болдвуд… – пробормотала Батшеба, глядя вслед удалявшейся повозке.
Он проехал, устремив безучастный взор вдаль, и ни разу не повернул головы. Словно прелестной соседки со всеми ее чарами вовсе и не было.
– Мужчина интересный, – заметила Батшеба. – Ты не находишь?
– Еще бы! Все это находят, – сказала Лидди.
– Хотела бы я знать, отчего мистер Болдвуд так замкнут и ко всему безучастен. Отчего кажется далеким от всего, что видит.
– Доподлинно это неизвестно, но люди говорят, будто он горькую обиду претерпел, когда был еще молод и весел. Подруга его обманула.
– Люди вечно говорят такое, но мы-то знаем, что на деле женщины редко обманывают мужчин. Гораздо чаще наоборот. Полагаю, он по природе своей так сдержан.
– Да, мисс. Не иначе как по природе.
– И все ж это было бы романтично – думать, будто ему, бедняжке, разбили сердце. Да может, так оно и есть?!
– Так и есть, мисс, не извольте сомневаться. Чую, что так и есть.
– Однако, думая о людях, мы часто придерживаемся крайних мнений. А ведь может быть, что он середина – немного то и немного другое: обманут женщиной и по натуре замкнут.
– Ах нет, мисс! Не может быть, чтобы он был серединою!
– Именно это вероятнее всего.
– Правильно вы говорите, мисс. Вероятней всего. Помяните мое слово, мисс: таков он и есть.
Глава XIII
Гадание на Святом Писании. Карточка к Валентинову дню
Был ранний вечер тринадцатого февраля. После воскресного обеда Батшеба, за неимением более подходящей компании, попросила Лидди посидеть с нею. Час, когда закрываются ставни и зажигаются свечи, еще не настал, и комнаты окутывала унылая полутьма. Сам воздух фермерского дома казался так же стар, как пропахнувшие плесенью стены. Один угол заставленной мебелью залы был холоднее другого, поелику днем здесь не топили. Новое пианино Батшебы (точнее сказать, «новоприобретенное», ибо со времени его изготовления минуло немало лет) стояло на неровном полу, словно какая-то перекошенная глыба, ожидая, что вечерние тени скроют уродливые углы.
Лидди уместно было бы уподобить неглубокому ручейку, вечно подернутому рябью. Ее общество, вовсе не грозившее излишним напряжением мысли, вполне способствовало упражнению последней. На столе лежал томик Библии в старинном кожаном переплете. Взглянув на него, Лидди произнесла:
– Не доводилось ли вам, мисс, гадать по Священному Писанию на жениха?
– Не говори чепухи, Лидди! Неужто ты в это веришь?
– Многие говорят, что такое гадание правдиво.
– Глупости, дитя!
– А уж как сердце колотится, когда ворожишь!.. Кто-то верит, кто-то нет. Я верю.
– Ну, будь по-твоему, – сказала Батшеба и нетерпеливо вскочила с кресла, проявив непоследовательность, какую мы порой без стеснения выказываем перед теми, кто стоит ниже нас. – Поди принеси ключ от передней двери.
Возвратившись с ключом, Лидди промолвила:
– Только вот воскресенье нынче. Боюсь, это грех.
– Что можно в будний день, можно и в воскресный, – изрекла хозяйка таким тоном, который сам по себе служил доказательством ее правоты.
Книгу раскрыли. Листы потемнели от времени. Те страницы, где напечатаны были часто читаемые стихи, порядком истрепались оттого, что прошлые владельцы, чтецы не слишком искусные, водили по строчкам пальцами. Батшеба отыскала в Книге Руфи стих, обыкновенно используемый для ворожбы[22]. Возвышенные словеса смутили и взволновали гадательницу. То была встреча древней Мудрости с воплощенным Безрассудством. Воплощенное Безрассудство зарделось, однако, не отказавшись от своего намерения, положило железный ключ на раскрытую страницу. В этом месте уже темнело пятнышко ржавчины, свидетельствовавшее о том, что старинный томик не впервые использовался подобным образом.
– Теперь сиди смирно и молчи, – сказала Батшеба.
Стих был произнесен, книга повернулась, сделав оборот. Гадательница вновь залилась стыдливым румянцем.
– На кого вы гадали? – спросила Лидди, не совладав с любопытством.
– Этого я тебе не скажу.
– А заметили вы, мисс, как мистер Болдвуд сегодня держал себя в церкви? – не отступала служанка, показывая новым вопросом, что догадывается, каков мог бы быть ответ на предыдущий.
– Вовсе нет, – сказала Батшеба тоном равнодушного спокойствия.
– Его скамья прямо против вашей, мисс.
– Я знаю.
– И неужто не заметили, как он себя держал?
– Разумеется, нет, говорю же.
Лидди приняла кроткий вид и поджала губки, вознамерившись отныне хранить молчание. Батшеба пришла в замешательство, ибо не ждала, что служанка и вправду замолчит. Теперь госпожа сама была принуждена спросить:
– Так как он себя держал?
– За все богослужение ни разу головы не повернул, чтобы на вас посмотреть.
– А с чего бы ему это делать? – произнесла Батшеба в раздражении. – Я его не просила!
– Оно конечно, только на вас все глядели. Странно было, что он один не глядел. Ну да это на него похоже. Богатый и благородный – ни до кого ему дела нет.
Хозяйка погрузилось в молчание, которым желала сказать, что ее соображения слишком глубокомысленны для понимания Лидди, и дело вовсе не в том, что ей, Батшебе, просто нечего ответить.
– Ах, Боже! – воскликнула она наконец. – Я совсем позабыла о карточке к Валентинову дню, которую купила вчера!
– Вы купили карточку? Для кого? Для мистера Болдвуда?
Предположение это было ошибочно, однако в глубине души Батшеба признавала, что оно, единственное из многих возможных, не лишено смысла.
– Да нет же, для маленького Тедди Коггена. Я обещала привезти ему из города гостинец. То-то он обрадуется! Будь добра, Лидди, принести мне мой письменный прибор. Я сделаю надпись.
Батшеба извлекла из ящичка открытку с великолепным тисненым узором, купленную в прошлый базарный день в лучшей писчебумажной лавке Кестербриджа. В середине открытки имелось овальное окошко, оставленное пустым, чтоб отправитель собственной рукой начертал нежные слова, более соответствующие случаю, нежели общая фраза, которую бы мог поместить здесь печатник.
– Что мне написать? – спросила Батшеба.
– Я бы так написала, – с готовностью откликнулась Лидди, – «Розочка алеет, синеет василек, песня душу греет – точь-в-точь как ты, дружок!»
– Недурно, – согласилась Батшеба. – Для веселого краснощекого малыша эти слова в самый раз подойдут.
И она вывела нехитрые стишки мелкими отчетливыми буквами, после чего поместила карточку в конверт и снова обмакнула перо в чернила, чтобы надписать адрес.
– До чего потешно было бы послать эту открытку старому дурню Болдвуду! Вот уж он подивился бы! – сказала неугомонная Лидди, приподняв бровки.
При мысли о том, сколь солидна и уважаема жертва задуманной ею шалости, она ощутила нечто среднее между безудержной веселостью и страхом. Батшеба всерьез задумалась. Болдвуд досадил ей тем, что он, подобно пророку Даниилу, упорно преклонял колена, обращаясь лицом на восток, хотя здравый смысл велел ему, по примеру прочих, поклониться идолу ее красоты. От него ничего не требовалось, кроме восхищенного взгляда, который полагался молодой фермерше как владычице здешних мест. Не то чтобы своенравие Болдвуда по-настоящему беспокоило Батшебу, и все же ей было чуточку обидно, что самый достойный мужчина прихода не глядит в ее сторону, а деревенская девушка Лидди об этом рассуждает. Посему, когда Лидди предложила подшутить над фермером, Батшеба ответила скорее обеспокоенно, чем возмущенно:
– Едва ли он найдет такую выходку забавной.
– Переполошится до смерти! – с уверенностью произнесла служанка.
– А и в самом деле, – уступила госпожа. – Вовсе не обязательно дарить открытку Тедди. Иногда он бывает такой озорник!
– И не говорите, мисс!
– Давай кинем монетку, – сказала Батшеба скучающим тоном. – Впрочем, нет. Подбрасывать деньги в воскресенье – приманивать дьявола.
– А вы подбросьте сборник гимнов. И греха не будет.
– Верно. Упадет открытым – пошлю конверт Болдвуду, закрытым – Тедди. Нет, первое вероятней второго. Пускай будет наоборот.
Книга, трепеща страницами, взлетела и приземлилась захлопнутой. Батшеба, зевнув, взяла перо и с невозмутимым видом адресовала послание Болдвуду.
– Теперь, Лидди, зажги свечу. Какую печать мы возьмем? С головой единорога? Это ни о чем не говорит. А здесь что? Два голубка? Нет. Нужно нечто необычное, верно, Лидди? Вот печатка с каким-то изречением. Прочесть сейчас не могу, но помнится мне, оно остроумно. Попробуем эту, а если не подойдет, возьмем другую. – Запечатав конверт красным сургучом, Батшеба поднесла его к глазам, чтобы разобрать слова. – Превосходно! – весело воскликнула она. – От такого даже пастор расхохочется с причетником вместе!
Лидди нагнулась над печатью и прочитала: «Женись на мне!»
Письмо в тот же вечер свезли в кестербриджскую почтовую контору. Оттуда его направили обратно в Уэзербери и уже на следующее утро вручили адресату. Дело было сделано – без раздумий, со скуки. Играть в любовь Батшеба умела недурно, но о том, каково ее испытывать, не ведала.
Глава XIV
Действие письма. Заря
Вечером Валентинова дня, когда смерклось, Болдвуд, по обыкновению, собрался отужинать у камина, в котором ярко горели поленья. На каминной полке стояли часы, увенчанные фигурой орла с распростертыми крыльями, а между ними помещалось присланное Батшебой письмо. На сей предмет Болдвуд глядел до тех пор, покуда большая красная печать не стала расплываться у него перед глазами. Он ел и пил, вертя в голове слова, оттиснутые на сургуче, хотя и не мог видеть их, сидя за столом.
«Женись на мне!» Дерзкое требование было подобно прозрачной субстанции, которая сама по себе бесцветна, но окрашивается цветами ближайших предметов. В безмолвии Болдвудовой гостиной, где все мрачно и где целую неделю господствовал дух пуританского воскресенья, послание Батшебы утратило первоначальное легкомыслие, впитав в себя торжественную серьезность, царившую кругом.
С самого утра, когда Болдвуду вручили письмо, он ощущал, как нарушается симметричность его существования и чаша весов клонится на сторону чистой страсти. Усмотрев в ничтожно малом предвестие необъятного, он взволновался, как Колумб, который, войдя в воды Саргассова моря, приметил пучки водорослей и подумал, что земля уже близка.
К написанию письма отправительницу должна была побудить некая причина. Разумеется, Болдвуд не мог знать или хотя бы предполагать, насколько эта причина незначительна. Ум, введенный в заблуждение, не понимает, что тот, кому он обязан этим своим состоянием, может действовать, повинуясь внутреннему зову, или же просто идти на поводу обстоятельств – при взгляде со стороны итог один и тот же. Привести вереницу событий в движение – совсем не то, что направить ее, уже идущую, в нужное русло, однако человек, сбитый с толку, не видит этого различия.
Перед тем как лечь в постель, Болдвуд поместил загадочный конверт в углу зеркальной рамы. Он не забывал об открытке, даже повернувшись к ней спиною. Никогда прежде с фермером Болдвудом такого не случалось. Те же чары, какие заставляли его думать, будто письмо прислано с определенным намерением, не позволяли ему усмотреть в этом поступке дерзость. Он в который раз устремил взгляд на конверт, и в таинственном воздухе ночи словно бы возникла сама отправительница – женщина, чья незнакомая рука нежно скользила по бумаге под присмотром незнакомых глаз, выводя имя Болдвуда. Воображение этой женщины, должно быть, в те минуты его рисовало. Только к чему бы ей о нем думать? Когда перо выписывало буквы, ее губы – красны они или бледны? пухлы или сморщенны? – сложились в некую линию. Какое чувство они выражали?