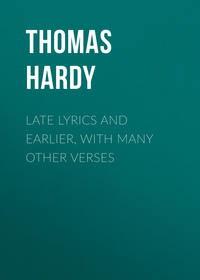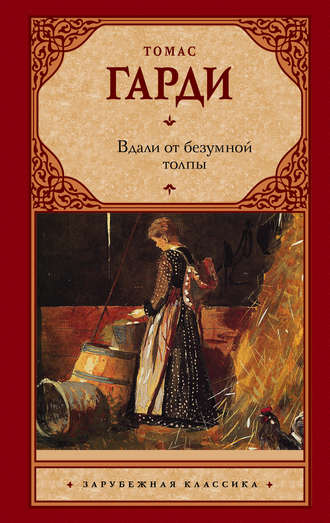
Полная версия
Вдали от безумной толпы
– Теперь идем домой, – сказала старшая женщина и, уперев руку в бок, оценивающе оглядела своих подопечных. – Надеюсь, Дейзи оклемается. Животина порядком меня напугала, и ради того, чтоб она поправилась, не жалко ночью встать с постели.
Молодая особа, чьи веки готовы были смежиться в первую же секунду тишины, чуть заметно разомкнула губы в зевке. Габриэль, точно заразившись, тоже тихонько зевнул.
– Если б мы были богаты, – молвила девушка, – мы бы кого-нибудь наняли, кто бы все тут сделал за нас.
– Но мы бедны и должны трудиться сами. Раз осталась, так помогай мне.
– Моя шляпка пропала, – сказала молодая особа, продолжая сетовать на судьбу. – Верно, за изгородь улетела. Ветер дул несильно, а все ж таки ее унес.
Одна из коров, та, что стояла, принадлежала к девонской породе и была облачена в теплую шкуру ярчайшего бордового цвета – такого ровного, без единого пятнышка от глаз до хвоста, словно животное окунули в киноварь. Длинная спина отличалась математической прямизною. Возле второй коровы, бело-серой, Оук лишь теперь заметил однодневного теленка. Судя по тому, с каким идиотическим недоумением теленок взирал на двух женщин, сам феномен зрения еще не вошел у него в привычку. Новорожденное существо часто оборачивалось к фонарю, по видимости принимаемому им за луну в силу врожденного инстинкта, еще не успевшего испытать на себе исправляющее действие опыта. В минувшие сутки Люцина, божественная родовспомогательница, славно потрудилась на Норкомбском холме, заглянув и в овечий загон, и в коровник.
– Зря мы не послали за толокном, – сказала старшая женщина, – отрубей больше нет.
– Да, тетя. Я привезу их, как только рассветет.
– Без дамского седла?
– Я и в мужском могу, не сомневайтесь.
Последние слова усилили желание Габриэля Оука рассмотреть черты девицы, однако капюшон последней и собственное положение над крышею хижины по-прежнему ему мешали, и он поймал себя на том, что восполняет недостающее силой воображения. Даже когда зрение наше ничем не затруднено, мы обыкновенно окрашиваем и лепим всякую вещь, которую видим, сообразно с собственными склонностями. Имей Габриэль возможность прямо поглядеть в лицо девицы, он бы нашел ее прекрасной или же только слегка миловидной зависимо от того, стремится ли его душа обрести предмет поклонения или уже обрела таковой. На протяжении некоторого времени Габриэль явственно ощущал недостаток той, что заполнила бы его пустующее сердце. Да и возвышенное положение его наблюдательного поста давало фантазии немалый простор. Посему фермер Оук вообразил незнакомку красавицей.
Подобно матери, которая, улучив свободное мгновение в череде неустанных трудов, заставляет детей улыбаться, Природа порой забавляет нас причудливыми совпадениями. Девушка откинула капюшон, и ленты черных волос рассыпались по красной ткани жакета. Оук тут же узнал в незнакомке владычицу желтой повозки, миртов и зеркальца, или, выражаясь совсем уж прозаически, особу, задолжавшую ему два пенса.
Поместив теленка поближе к матери, женщины покинули хижину. Проследив за огоньком их фонаря, который спускался по склону холма, пока не утонул во мгле, Габриэль Оук возвратился к своему стаду.
Глава III
Наездница. Разговор
Тускло забрезжил день, чей приход на землю едва ли не всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, не имея на то иной причины, кроме ночного приключения, снова отправился в лес. Он прогуливался среди буков, погруженный в свои мысли, когда у подножия холма раздался топот лошадиных копыт. Вскоре на тропе, взбегавшей по склону, показался рыжий пони. На спине его сидела вчерашняя молодая особа. Габриэль тотчас вспомнил о шляпке, подхваченной ветром, и подумал, что девица, вероятно, явилась в лес искать пропажу. Торопливо пройдя ярдов десять вдоль канавы, он нашел шляпку среди сухих листьев и, подобрав ее, вернулся к себе в хижину. Укрывшись там, Оук стал в щелку глядеть на тропу.
Девушка поднялась на холм, осмотрелась кругом и заглянула за изгородь. Габриэль хотел было выйти из убежища и возвратить свою находку владелице, но то, что произошло в следующую минуту, заставило его помедлить. Минуя коровник, тропа ныряла в лес, делаясь совершенно непригодной для верховой езды, поскольку нижние ветви деревьев чуть ли не скребли по земле, так что прямо сидящий всадник не мог под ними проехать. Девушка, одетая не в амазонку, а в простое платье, быстро оглянулась и, убедившись, что никто из рода человеческого на нее не смотрит, откинулась на спину лошади. Ноги наездницы оказались на плечах животного, голова – над крупом, а глаза обратились к небу. Это движение произведено было с проворством зимородка и беззвучностью ястреба. В противоположность Габриэлю, едва успевшему заметить сей маневр, высокий худощавый пони ничуть не казался удивленным. Все тем же неспешным шагом он провез хозяйку под низко нависавшими ветвями.
Любая часть лошадиного тела от головы до хвоста, по-видимому, представлялась молодой наезднице вполне удобной. Когда лес закончился, и лежать на спине животного стало незачем, девушка приняла другое положение, не столь необычное. Седло ее было мужским, и прочно усесться на его гладкой коже боком она бы, очевидно, не смогла. Выпрямившись, как выпрямляется молодое деревце, если пригнуть его к земле, а затем отпустить, девица успокоила себя мыслью, что никто ее не видит, и приняла позу, наиболее удобную для езды верхом, однако не принятую среди женщин. Так она направилась в сторону мельницы Тьюнелла.
Увиденное развлекло и, пожалуй, удивило фермера Оука. Повесив женскую шляпку на гвоздь в хижине, он вышел к овцам. По прошествии часа девушка вновь показалась на тропе. Теперь она сидела как полагается, везя мешок с отрубями. У коровника ее встретил мальчик с подойником в руках. Паренек придержал поводья и, когда наездница легко соскользнула вниз, увел пони, а подойник оставил ей.
Из коровника, мерно чередуясь, стали доноситься мягкие и звонкие шумы, издаваемые струйками молока при доении. Габриэль взял шляпу и вышел на тропу, по которой девушка вскоре должна была спуститься с холма. Она и в самом деле появилась, держа в одной руке подойник, свисавший до ее колен, а другую руку для равновесия отставив в сторону. Перчатки на ней не было, и, увидев обнаженную кисть, Оук пожалел о том, что дело происходит не летом, когда короткий рукав открыл бы его взору много больше. От девушки исходило сияние довольства и веселости, словно она не сомневалась, что все кругом должны радоваться ее присутствию на белом свете. Дерзость этого убеждения не оскорбила Оука, ибо он был с ним вообще-то согласен. То, как уверенно незнакомка себя держала, казалось сродни торжественности в речах гения: человека посредственного она сделала бы смешным, но личность выдающаяся благодаря ей обретает еще большую власть.
Девушка не без некоторого удивления поглядела на фермера, чье лицо встало перед нею, как луна над оградой. Портрет прекрасной девы, сотканный воображением Габриэля, оказался не слишком верным, однако, пожалуй, не затмевал оригинала. Оценивая истинный облик незнакомки, Оук первым делом попытался мысленно ее измерить. Подойник был слишком мал для мерила, да и изгородь слишком низка. Посему девушка, казавшаяся в сравнении с ними высокой, на деле имела, вероятно, тот самый рост, который считается для женщины наилучшим, – не слишком большой и не слишком малый. Все ее черты отличались строгостью и правильностью.
Тот, кто путешествовал из графства в графство, ища женской прелести, знает, что классическая красота лица редко сочетается в англичанках с классической красотою тела. Нос и рот, имей они даже совершенную форму, зачастую бывают для своей обладательницы чересчур крупны. А фигура, блещущая пропорциональным сложением, отнюдь не всегда венчается хорошенькой головкой. Не набрасывая на деву с подойником покрывала нимфы, скажем, что придирчивый взор, не найдя никакого изъяна, мог лишь наслаждаться соразмерностью ее черт. Контуры выше талии сулили наблюдателю прекрасные плечи и шейку, но их никто не видывал с тех самых пор, как дева перестала быть ребенком. Ежели бы на нее надели открытое платье, она бросилась бы бежать и спрятала голову в ближайшем кустарнике. Причина заключалась не в особой стыдливости натуры, а лишь в том, что черта, отделяющая зримое от сокрытого, расположена у сельских женщин выше, чем у горожанок. В ту секунду, когда взгляд девушки встретился с восхищенным взглядом Оука, собственные ее мысли обратились к тому же предмету – своей красоте. Выраженное чуть сильнее, довольство собою есть тщеславие, а чуть слабее – достоинство.
Для юных селянок лучи мужского взгляда подобны щекотке, и девушка поднесла пальцы к лицу так, будто Оук и впрямь коснулся ее нежной кожи. Движения незнакомки тотчас стали менее свободны, и все же краска смущения залила мужские, а не девичьи щеки.
– Я нашел эту шляпку, – сказал Оук.
– Она моя, – ответила девушка и, учтивости ради сдержав смех, лишь слегка улыбнулась. – Ее унесло ветром.
– В час пополуночи?
– Да, – подтвердила она с удивлением. – Как вы узнали?
– Я был здесь.
– Так вы фермер Оук?
– Он самый. В этих краях я недавно.
– Велика ли ваша ферма? – спросила девушка и, оглянувшись по сторонам, откинула волосы.
Возле шеи они казались черными, но верхние пряди окрасились цветом солнца, взошедшего час тому назад.
– Нет, не велика. Около сотни.
Говоря о земле, сельские жители обыкновенно опускают слово «акр», подобно тому как оленя называют «десятковым», не поясняя, что десять – число отростков на его рогах.
– Нынче шляпка была мне нужна. Я ездила на мельницу.
– Мне это известно.
– Откуда же?
– Я видел вас.
– Где?
Каждый мускул лица и тела незнакомки сковало боязливое ожидание ответа.
– Здесь, в роще, и на склоне холма.
Взор, каким Оук окинул тропу, выдавал его осведомленность о том, чего ему знать не полагалось. Снова поглядев на собеседницу, он тотчас опять захотел отвести глаза, как если бы его поймали на воровстве. Девушка же, припомнив свои недавние акробатические экзерсисы, почувствовала, что лицо ее загорелось, будто от крапивы. И хотя это вовсе не входило у нее в обычай, на сей раз она покраснела. Каждый дюйм прелестной кожи принял цвет лепестков розы: сперва нежной розы «Бедро нимфы», затем всевозможные оттенки розы провансальской и, наконец, алой тосканской. Оук из деликатности отвернулся. Несколько мгновений он смотрел в сторону, думая о том, достаточно ли собеседница овладела собою и скоро ли он сможет опять поглядеть ей в лицо. Наконец раздался шорох, легкий, как трепет засохшего листа на ветру, и Габриэль повернул голову. Девицы и след простыл. Обретя вид полутрагический-полукомический, Оук возвратился к своим делам.
Миновало пять дней и пять вечеров. Каждое утро молодая особа приходила доить здоровую корову и лечить больную, но ни разу не позволила своему взору остановиться на персоне фермера Оука. Он глубоко ее оскорбил – не тем, что увидел то, чего не увидеть не мог, а тем, что дал ей об этом знать. «Где нет закона, нет и преступления»[7], а там, куда не смотрят чужие глаза, нет и непристойности. Девушке, по-видимому, казалось, будто, проследив за нею, Габриэль превратил ее в женщину предосудительного поведения. Это досадное обстоятельство дало Оуку обильную пищу для сожалений. Оно же раздуло в его душе то скрытое пламя, что зародилось после первой встречи с темноволосою красавицей.
И все же знакомство, едва начавшееся, вероятно, завершилось бы для Оука медленным забвением, если бы не случай, произошедший на исходе недели. В тот день стало холодать, под вечер мороз усилился, постепенно и словно бы исподволь сковав все кругом. В такую пору дыхание крестьянина, что спит в своем скромном жилище, превращается в иней на простыне, а в доме большом и толстостенном у тех, кто сидит в гостиной перед разожженным огнем, мерзнут спины, даже если лица пылают. Той ночью многие пташки уснули на голых ветвях, не отужинав.
В час доения Оук по привычке следил за тропой, ведущей к коровьей хижине. По прошествии некоторого времени он стал замерзать и, подложив годовалым овечкам побольше соломы, вернулся в свое убежище, чтобы подбросить в печку дров. Из-под двери дуло. Оук прикрыл щель мешком, а свое ложе повернул немного к югу. Однако холодный воздух все равно струился через отдушину. Точнее, отдушин было две, и фермер знал: когда огонь разожжен, а дверь заперта, по меньшей мере одну следует оставлять открытой – ту, которая не обращена к ветру. И все же теперь Оук решил на минутку-другую закрыть оба отверстия, пока хижина немного не нагреется. Фермер сел. Ощутив непривычную боль в голове и отнеся ее за счет того, что прошлыми ночами приходилось мало спать, он хотел встать, открыть одно оконце, а затем дать себе немного отдыха, однако уснул прежде, чем успел исполнить свое намерение.
Габриэль не знал, долго ли он пробыл в беспамятстве. Когда сознание стало к нему возвращаться, ему показалось, будто с ним происходят странные вещи: лает собака, чьи-то решительные руки расслабляют на нем шейный платок… Голова болела неистово. Оук открыл глаза и, к удивлению своему, увидел, что в хижине уже сгустилась вечерняя мгла, а в этой мгле он различил прелестные губы и белые зубки молодой особы. Более того, его голова покоилась на ее коленях, лицо и шея были мокры, а женские пальчики расстегивали ему воротник.
– Что со мною? – спросил Габриэль безучастным голосом.
Девушка как будто обрадовалась, хотя и не возликовала.
– Уже ничего, раз вы не умерли. И как вам удалось не задохнуться в этом фургоне?
– Ах, фургон… – пробормотал Габриэль. – Я купил его за десять фунтов, а теперь, наверное, продам. Буду сидеть под изгородью, как делали встарь. Спать с овцами на соломе. Уже во второй раз я здесь едва не угорел!
Последнее восклицание фермер сопроводил ударом кулака по полу.
– Виновата не хижина, – произнесла девушка так, словно прежде чем начать говорить, она подумала – немалая редкость для женщины. – Вероятно, вам следовало быть умнее и не закрывать оба оконца враз.
– Вероятно, – ответил Оук рассеянно.
Покуда это мгновение не затерялось во множестве событий, он хотел поймать то чувство, которое испытывал, лежа вот так – головою на платье хорошенькой молодой особы. Он желал бы дать название своему ощущению, однако нашел, что уловить последнее грубыми силками языка не легче, чем сетью поймать аромат.
Девушка помогла Габриэлю сесть, и его лицо понемногу приняло всегдашний буро-красный оттенок.
– Как мне вас благодарить? – спросил он тоном неподдельной признательности.
– О, не стоит! – ответила девица с улыбкою и с улыбкой же выслушала новый вопрос:
– Как вы меня нашли?
– Я шла из коровника и приметила вашу собаку: она выла и царапала дверь. Хорошо еще, что беда не случилась с вами позже: молоко у нашей Дейзи почти закончилось, и в другой раз я, должно быть, приду сюда уже на той неделе или на следующей. Так вот собака меня увидала, подскочила ко мне и схватила за юбку. Я обошла фургон кругом, чтобы взглянуть, не закрыты ли оконца. У моего дяди хижина наподобие вашей, и я слыхала, как он говорил пастуху, чтобы тот непременно отворял одну отдушину, прежде чем ложиться спать. Когда я вошла внутрь, вы лежали будто мертвый. Воды при мне не было, и я плеснула на вас молока, позабыв, что оно теплое. Вы не очнулись.
– Выходит, я должен был умереть? – проговорил Габриэль так тихо, словно адресовал этот вопрос более себе самому, нежели своей собеседнице.
– Ах, нет!
О вероятности столь печального исхода девица предпочла не думать. Признай она, что спасла фермеру жизнь, не удалось бы избежать речей, соответствующих возвышенному духу сего деяния, а таковые были ей не по нраву.
– Вы моя спасительница, мисс… Простите, с вашей тетушкой я знаком, а вашего имени не знаю.
– Полагаю, мне нет нужды его говорить. У вас со мною, верно, не будет больше никаких дел.
– И все же я хотел бы знать, как вы зоветесь.
– Спросите у моей тети, она вам скажет.
– Мое имя Габриэль Оук.
– А мое – нет. Ваше, видно, очень вам по нраву, раз вы произносите его с такою решимостью, Габриэль Оук.
– Мне ничего не остается, ведь другого имени у меня нет и уж не будет.
– Мое всегда казалось мне странным и неблагозвучным.
– Думаю, скоро вы его перемените.
– Боже праведный! Не чересчур ли много вы думаете о других людях, Габриэль Оук?
– Простите, мисс, я полагал, они будут вам приятны. По совести, я не мастер говорить и не сравнюсь с вами в умении взвешивать то, что у меня на языке. Однако я благодарю вас. Дайте же мне вашу руку!
Девушка поколебалась, несколько смущенная тем, с какой старомодной серьезностью Оук вздумал завершить их непринужденную беседу.
– Извольте, – промолвила она и исполнила его просьбу, с выражением деланой безучастности поджав губы.
Оук продержал руку девушки всего мгновение и, побоявшись пожать ее слишком крепко, тронул пальцы едва ощутимо, как делают люди малодушные.
– Простите, – сказал он секунду спустя.
– За что же?
– За то, что выпустил вашу руку так скоро.
– Возьмите ее опять, ежели хотите. Вот она.
На этот раз рука молодой особы пробыла в руке Оука дольше – на удивление долго.
– До чего мягкая у вас кожа! Не загрубела и не потрескалась, хотя теперь зима.
– Ну довольно, – сказала девушка, не отнимая руки. – Быть может, вам бы хотелось также ее поцеловать? Я разрешаю.
– Я ни о чем таком не думал, – сказал Габриэль простодушно, – но поцелую.
– Вот уж нет! – девушка отдернула руку, и Оук застыдился оттого, что снова повел себя неучтиво. – Теперь узнайте мое имя, – прибавила она задорно и тотчас удалилась.
Глава IV
Габриэль решается. Визит. Ошибка
Сильный пол обыкновенно терпит в женщине лишь такое превосходство, коего она сама не сознает. Однако и превосходство, ею сознаваемое, порой привлекает мужчину, если оставляет ему надежду ее покорить. Красивая и благовоспитанная девица за короткий срок в немалой степени овладела думами молодого фермера Оука. Подобно тому, как низменную страсть пробуждает желание плотских наслаждений или материальной выгоды, стремление к обогащению духа дает начало чистой любви, которая, ведя торги на бирже сердец, не уступит в настойчивости самому алчному ростовщику. Каждое утро шансы Оука менялись в его собственных глазах, будто котировки акций на рынке. Он ждал встречи с девицей, как собака ждет кормежки. Габриэль почти не глядел на своего пса, остро ощущая унизительность такого подобия, и все же не переставал ждать, не мелькнет ли за изгородью милый женский образ. Его чувства к девушке крепли, причем безо всякой взаимности. Он не умел изъясняться в пышных фразах, которые кончаются там же, откуда начались. Не умел петь песен, «где много шума и страстей, но смысла нет»[8]. А потому, пока не зная определенно, что желал бы выразить, хранил молчание.
Ему лишь удалось узнать, что девица зовется Батшебой Эвердин и что через семь дней молоко у ее коровы пропадет вовсе. Тот восьмой день, которого Габриэль так страшился, настал, и девушка не поднималась более по склону холма. Чувства фермера Оука пришли в такое состояние, какого он еще недавно не мог себе даже представить. Вместо того чтобы насвистывать, он с наслажденьем произносил имя Батшеба. С мальчишества Оук любил видеть у женщин каштановые локоны, однако теперь сделался ценителем черных. Он пребывал в уединении и практически полностью исчез из поля зрения местного общества. Любовь – это зреющая сила, рождающаяся в преходящей слабости. Женитьба превращает то, что мешает, в то, что поддерживает, причем по мощи своей поддержка должна быть (и, к счастью, обыкновенно бывает) прямо пропорциональною помехе. Увидав свет на этом пути, Оук сказал себе: «Она будет моей женою, или, душой клянусь, я пропал!»
Не один день ломал он голову, ища предлога, чтобы посетить коттедж тетки своей любезной. Случай представился, когда пала овца, оставившая живого ягненка. Погожим январским утром, имевшим летний лик и зимнюю сущность, когда солнце пролило каплю серебристого света, а небо открыло немного голубизны, лишь чтобы внушить ободренным людям мечты о большем, Оук поместил ягненка в добротную корзинку и зашагал через поля к дому миссис Херст. Пес Джордж увязался следом, всем своим видом показывая, как не по нраву ему, пастуху, такой оборот.
Завидев над трубой синеватый дым, Габриэль впал в странную задумчивость. Вечерами он мысленно прослеживал путь дымовой струи обратно: вниз по трубе к очагу, перед которым сидит Батшеба в своем рабочем наряде. Платье, что было на ней тогда, на холме, стало в глазах Оука неотделимо от ее образа и тоже сделалась предметом нежных чувств. В пору начала его любви оно казалось ему необходимою частью сладчайшей микстуры под названием Батшеба Эвердин.
Сам же Габриэль облачился в продуманный костюм, представлявший собой нечто среднее между аккуратной скромностью и нарядным легкомыслием, между дождливым воскресеньем в церкви и ярмарочным гуляньем. Серебряную цепочку часов Оук тщательно начистил мелом, а в ботинки вдел новые кожаные шнурки, натерев до блеска медные кольца отверстий. Сверх того он изготовил новую трость из ветви, срубленной в самой гуще леса, и извлек со дна одежного сундука чистый носовой платок. Надев светлый жилет с узором из ростков дивного цветка, сочетавшего прелести лилии и розы, Габриэль извел все масло, какое имел, на свои обыкновенно спутанные и сухие песочные кудри. От такого к ним внимания они обрели новый великолепный цвет (смешение гуано[9] с римским бетоном) и стали липнуть к голове, как шелуха к мускатному ореху или мокрые водоросли к камню после отлива.
Коттедж окутывала тишина, нарушаемая только бранью стайки воробьев под карнизом. (В семействах, что лепят свои гнезда к наружным краям крыш, ссоры и сплетни случаются не реже, чем у живущих внутри домов.) Это, по видимости, надлежало расценивать как недобрый знак, ибо начало визита вышло не самым удачным: приблизившись к садовой калитке, Оук заметил кошку, которая тотчас принялась выгибаться дугой и угрожающе шипеть. Пес, уже достигший того возраста, когда лай без значительного повода считается среди собак пустым расточением сил, счел кошачьи конвульсии недостойными своего внимания. (Надобно сказать, что даже на овец он лаял лишь для порядка и безо всякой злобы, как духовный пастырь посыпает головы грешников пеплом в начале Великого поста – обычай унизительный, однако необходимый для устрашения прихожан ради их же блага.) Вдруг из-за лавровых кустов, в которых скрылась кошка, раздался крик:
– Бедняжка! Этот гадкий злой пес хотел ее убить!
– Прошу простить меня, – ответствовал Оук, – но Джордж шел со мною рядом и был совершенно спокоен.
Едва договорив, Габриэль с тревогой подумал о том, чьих ушей достигнут его слова. Из-за кустов никто не появился. Напротив, шаги удалились. Оук задумался так глубоко, что на лбу его возникли бороздки, прочерченные силою мысли. Когда предстоящая беседа может изменить положение вещей как к добру, так и к худу, любое различие между действительным и ожидаемым порождает тревожное предчувствие неудачи. Габриэль приблизился к двери слегка сконфуженный: визит, так давно им предвкушаемый, имел в его мечтах совсем иное начало.
Дверь отворила тетушка Батшебы.
– Не будете ли вы добры передать мисс Эвердин, что кое-кто желал бы с нею говорить? – спросил мистер Оук, назвавшись кое-кем, вместо того чтоб представиться, отнюдь не вследствие дурного воспитания, а в силу высочайшей скромности, ценимой в деревне, однако вовсе неведомой горожанам с их докладами и визитными карточками.
Батшебы в доме не оказалось. Значит, то был ее голос – там, за кустами лавра.
– Вы войдете, мистер Оук? – пригласила миссис Херст.
– Благодарю вас, – ответил Габриэль, проходя к камину следом за хозяйкой. – Я принес мисс Эвердин ягненка. Подумал, что ей приятно будет его растить. Девушки это обыкновенно любят.
– Может, ей и придется по нраву ваш подарок, – произнесла миссис Херст раздумчиво, – однако она и сама здесь гостья. Ежели подождете минутку, она придет.
– Я подожду, – сказал Оук, садясь. – По правде говоря, миссис Херст, я не только из-за ягненка пришел. Я хотел бы спросить, согласится ли она стать моею женой.
– В самом деле?
– Да. Потому как если она согласна, я женюсь на ней с превеликой радостью. Не подскажете ли вы, есть ли подле нее другие молодые люди с подобными намерениями?
– Дайте-ка подумать, – ответила миссис Херст, рассеянно вороша угли в камине. – Оно, конечно, молодых людей хоть отбавляй. Видите ли, фермер Оук, Батшеба девушка видная, к тому же ученая. Хотела даже гувернанткою стать, да только нрав у нее для этого чересчур необузданный. Не то чтобы мужчины ее здесь посещали, но, Боже мой, по своей природе она должна иметь целую дюжину женихов.