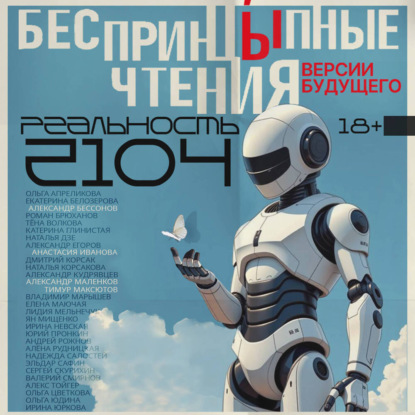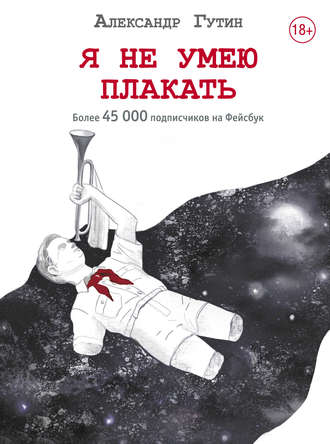
Полная версия
Я не умею плакать
– По важному делу, – отвечают, – зачем же еще? Ты, Виктор, крестовик-то дай нам подержать, а то тебе, наверное, тяжело.
– Да нет, нормально, – говорит Витя, но левый с усами крестовик уже забрал.
– Ты вот что, Виктор, помоги нам найти родственника своего, а мы тебе за это денег дадим, – улыбается безусый.
Витя очень удивился. Но даже не тому, что ему Назарова сдать предлагают, а тому, что ему, Вите, кто-то хочет дать денег. Стоит Витя, рот открыл от удивления, а что сказать и не знает.
– Тебе-то что терять? – продолжает безусый. – Ничего. Кто тебе этот Назаров? Вода на киселе. Он тебе хоть раз денег давал? Не давал. А мы дадим.
Тут левый с усами из кармана бумажку достал и Вите показывает. А на бумажке цифра тридцать, а потом еще несколько нулей.
Тут Витя не выдержал и повелся. Ну, а как не повестись было? Это же такие деньжищи! Сразу все проблемы махом решить. Купить себе новую норку, а ту, мамулину, которая в хрущобе, Лилии Владимировне оставить, пусть себе живет. И не бояться больше ничего. Дочку, конечно, жалко, теща потом его на порог не пустит, ну да Витя с такими деньгами что-нибудь придумает, наверное.
Не выдержал Витя, повелся на большие деньги, согласился.
Двое ему руку пожали и пообещали завтра прийти.
Витя к тетке Кате в тот же вечер пошел. Тетка Катя – мама Назаровская. Посидели, мамулю Витину вспомнили, выпили по сто пятьдесят. Тетка Катя холодцом угостила. Витя тетке ерунду наплел. Мол, уйти от жены решился, надо бы квартирку снять, а денег откуда у Вити? Может, сын ее, Назаров, помог бы по-родственному? Тетя Катя захмелела, с пониманием отнеслась, рассказала Вите, что Назаров в деревне прячется временно, что рад будет видеть родственника, попросила сыну холодца передать. Витя согласился, конечно.
Назавтра пришли те же. Витя деньги вперед попросил. Те спорить не стали, вынули пачку ассигнаций, попросили пересчитать. Витя взял и про деревню рассказал. Левый с усами поблагодарил, а безусый молча руку пожал.
Короче, Назарова повязали в тот же день. Судили. Прокурор странный попался, все жалел Назарова, вел себя как-то не по-прокурорски. Но судье-то что. Его Сидоров уже давно проинструктировал. Закрыли Назарова.
Но Сидорову и этого мало было, чем уж ему Назаров насолил, непонятно. Зря, зря, тот в политику полез. Ошибку допустил непоправимую.
Одним словом, на пересылке Назарова к нарам привязали крестом, руки в стороны, и оставили на морозе. Правда, кто-то из блатных, особенно сердобольный, сжалился над страдальцем, заколол его заточкой прямо в сердце. Не стало Назарова.
А Витя с чего-то мучиться стал. Деньги не в радость, как получил, так и лежат стопочкой в ящике для инструментов, чтобы Лилия Владимировна не нашла. Пытался взять, купить что-нибудь, да не смог. Сил нет, сердце болит, мучения одни.
В городе же буча началась, стали общак назаровский искать. Петька Апостолов исчез бесследно вместе с деньгами. Искали долго, но того как корова языком слизала. Шептались, что Петьку в Италии видели, не то в Риме, не то еще где-то. Но толком никто ничего не знал. Так и замяли вопрос.
Сын Сидорова хлебозавод себе забрал. Ничего вроде, работает.
А Витя все терзался, до психушки себя довел, месяц наблюдался, вроде на поправку пошел, выписался. А на следующий день повесился, дурак. Прямо за домом на осинке.
Лилия Владимировна после его смерти неожиданно похорошела, в Египет съездила, ремонт, говорят, затеяла, и у Лукова его «одиннадцатую» купить хочет. Луков пока думает, но скорее всего согласится.
Наденька и Шаповалов
Наденька была женщиной эфемерной, к поцелуям зовущей. Именно так определяли ее подруги. Вся утонченная, от лодыжек до запястий, Наденька любила все красивое и милое. Золотые колечки на своих тонких пальчиках, витые рамы эстампов на стенах своего будуара, длинные резные мундштуки, дымящиеся в ее кружевных перчатках. Все вокруг нее было таким же возвышенным и прекрасным, вплоть до тойтерьера Чарли, маленького, пучеглазого и дрожащего. Но даже в этой осиновой дрожи было что-то воздушное и легкое.
Тем более никому было не понятно, что связывало Наденьку с Шаповаловым. Мужчиной грубоватым, происхождения пролетарского, с большими ковшевидными ладонями, торчащими из рукавов мундира майора особого отдела.
– Валерочка, котик, налей мне шампанского, – улыбалась Наденька.
Шаповалов болезненно морщился, его коробило от этого «котика», но шампанское безропотно наливал.
– Валерочка, зайчик, твоя киса хочет в ресторан! – капризничала Наденька.
Шаповалова выворачивало наизнанку от всех этих зоологических эпитетов, но он вел ее в лучшие рестораны города.
Несколько раз он просил Наденьку не называть его котиком, зайчиком и прочими солнышками. Но Наденька пожимала плечами и мурлыкала:
– Малыш, ну что ты такое говоришь? Хочу цветочков! Купи мне розочки!
Шаповалов терпел. Но самое ужасное, что Наденька не унималась и тогда, когда рядом были сослуживцы по особому отделу.
Те, конечно, ничего не говорили, а только посмеивались в кулак и недоуменно переглядывались. Их жены были не такими. По большей части это были крепкие русские женщины, которые называли мужей по фамилиям. В лучшем случае по именам. Но не Петя там какой-то и не Коля, а непременно Петр или Николай.
Шаповалов никак не мог привыкнуть к уменьшительно-ласкательным эпитетам, которыми его щедро одаривала Наденька. И очень страдал.
Был сентябрь. Осень уже подернула листву деревьев рыжиной, но еще было довольно тепло. Шаповалов пил пиво с майором Афиногеновым в городском парке. Плыли облака, где-то играл духовой оркестр, продавщица Зина разливала в бокалы пенистый напиток.
– Шаповалов, я тебе давно сказать хотел как друг… – заговорил Афиногенов.
– Чего? – очнулся от раздумий Шаповалов и сдул с кружки пену.
– Сказать тебе хотел давно, говорю. Ты бы бабу свою научил нормально обращаться, а то весь отдел смеется, ей-богу! Мы особый отдел! Бойцы, так сказать, невидимого фронта! Вся страна у нас вот где! – Афиногенов сжал кулак. – А тут котик! Солнышко! Тьфу! Научил бы ее!
– Это как – научил? – сощурился Шаповалов.
– А так! По-русски! Выпорол бы один раз, она бы этих зайчиков навсегда забыла!
Шаповалов молча поставил кружку на стол и двинул Афиногенову в глаз.
Тот охнул и упал со стула прямо на заплеванный пол.
– Ты это… чего?! – заорал он, держась за подбитый глаз.
– Того! Не твое дело! Пусть зовет, как хочет. Я люблю ее, понял?
Шаповалов не спеша встал и вышел из пивной.
По дороге он купил розы. Он шел домой, туда, где ждала его Наденька. Эфемерная, к поцелуям зовущая женщина. Которую непонятно что объединяло с этим грубоватым человеком пролетарского происхождения.
Егор Ильич Аполлинер
Вероника очень страдала от непонимания. Непонимание исходило прежде всего от мужа. Егор Ильич был старше миниатюрной и точеной Вероники на десять лет, выше почти на полметра и тяжелее в два раза.
– Мой муж… нет, нет, он меня любит, что бы там ни было… И знаете, я достаточно благодарна, чтобы говорить о том, что он та самая каменная стена, о которой мечтает каждая женщина… Но…
– Да что «но»? – ждала пикантных подробностей Эллочка фон Шершнефф, ее многоопытная в межполовых отношениях подруга. – Секс? Неужели так плохо?
– Ну, что ты… Егор… Егор Ильич крепкий мужчина. Но, понимаешь, он приземлен! Он живет в каком-то мире из железа и кирпича! Представляешь, я прочитала ему вот это: «Когда веленьем сил, создавших все земное, поэт явился в мир, унылый мир тоски…», он не знал, что это Бодлер! Он вообще не интересуется ничем, кроме работы, дома и рыбной ловли! Я живу с ним, как с грубым неотесанным мужиком…
– Да уж… – после некоторой паузы промолвила Эллочка и внезапно воскликнула: – Я знаю, что делать!
В тот же день подруги посетили выставку модного художника, которая проходила в не менее модном лофте с винными погребами.
Кругом было много утонченной публики, подавали молодое вино, говорили об искусстве, кто-то читал стихи, кто-то рассуждал о преимуществах позднего Ренессанса над ранним, кто-то сдержанно смеялся над тонким остроумным анекдотом.
Одним словом, к концу вечера хмельная Вероника очнулась в одном номере с модным художником, посмотрела на часы, констатировала половину первого ночи и, сказав «будь, что будет!», упала в худосочные объятия работника кисти и палитры.
Художника звали Дионис. Представляете? Только так и не иначе могли звать человека, с которым Вероника не сможет быть одинока, которому может прочитать: «Тебе стихи мои, сравниться ль их красе с очами милыми, с их чудной красотою…», а в ответ услышать: «Так это же Верлен!» Ну, разве сравнится мужлан Егор Ильич с этим изящным длинноволосым брюнетом, одно имя которого – Дионис – заставляет ее сердце биться, как колокол?
Утро разбудило их прозрачным солнечным лучом, проникшим сквозь шелковые шторы.
– «Она была полураздета, и со двора нескромный вяз в окно стучался без ответа…» – прошептал художник.
– Рембо! – улыбнулась Вероника. – А мой муж никогда бы это не сказал. Он вообще никогда ничего не говорит…
Напрасно Егор Ильич ждал супругу дома. Она не вернулась к нему.
Прошло две недели. Вероника пыталась осознать и понять новую жизнь.
За это время цитаты французских поэтов слегка иссякли. Она пыталась находить новые, но они перестали быть такими яркими, как тогда, в ночь после выставки.
Вдобавок ко всему художник продал две картины и тяжко запил. Он пил самозабвенно и упоительно. А напившись, истерично кричал, что он ничтожество, продающее искусство за звонкую монету, а потом засыпал голый на полу.
Вдобавок ко всему у Вероники кончились деньги.
– Эллочка, – говорила она подруге по телефону, – у меня крайне затруднительное положение, Дионис пьет! И вдобавок совершенно кончились деньги! Представляешь? Мне нужно немного денег…
– Я бы с удовольствием, но я улетаю в Ниццу с Аликом. Совершенно нет времени, солнышко, у меня еще ничего не собрано…
Вероника плакала. Вернуться к Егору Ильичу? Да он и слышать о ней не желает, скорее всего… Да и совесть не позволит.
Она сидела на скамейке в Нескучном под голубым зонтом. С неба уныло капали дождинки позднего лета, по лицу бежали светлые дождинки запоздалых слез. Жизнь казалась нелепой и глупой. Терзало осознание того, что таковой ее сделала сама Вероника.
Вдруг на скамью присел кто-то большой и грузный. Вероника вздрогнула и подняла глаза. Рядом сидел Егор Ильич в сером плаще и в шляпе в цвет. На Веронику он не посмотрел.
Помолчали. Вероника не знала, что и сказать.
– Пошли домой, – тихо, но четко произнес Егор Ильич, поднялся со скамьи и пошел по аллее по направлению к выходу.
Несколько секунд Вероника смотрела на его удаляющуюся спину, а потом встала и завороженно пошла за ним.
Придя домой, она неожиданно почувствовала, как соскучилась по этим стенам.
Ночью она проснулась, посмотрела на профиль мужа. Тот не спал и глядел в потолок.
– Почему ты забрал меня после всего… После этого…
– Потому что люблю, – ответил Егор Ильич, повернулся на бок и уснул.
Веронике не спалось. В голове вертелись строчки из Аполлинера, и от этого было невыносимо противно.
Прапорщик Чугунов
Прапорщик Чугунов был очень жестким человеком. К солдатам воинской части, где он служил старшиной, относился с неприязнью, любимчиков не выделял, ненавидя всех без селекции по национальности и росту. Конечно, слово «ненависть» тут не совсем верное. Просто вся эта одинаковая толпа людей в одинаковой форме вызывала у него зубной зуд.
Приехав утром на службу, подходя к казарме, он, еще не видя, что делается внутри, начинал орать: «Что, холера вас возьми, за бардак?! Всех сгною к чертям собачьим!»
А потом действительно начинал гноить, очень жалея, что вынужден это делать только в рамках Устава. Хотя иногда позволял себе и немного выходить за эти самые рамки, раздавая затрещины и пинки тем, кто особенно, по его мнению, не соответствовал званию настоящего воина. Однажды он даже выбил зуб младшему сержанту, совершенно случайно, но отчего-то нисколько не расстроился, а даже скорее наоборот.
В добродетели настоящего солдата он вносил умение заправлять кровать, мыть полы и унитазы, а также вовремя выполнять команду «отбой».
Вышестоящих командиров прапорщик Чугунов ненавидел еще больше, чем солдат. Каждый раз делал нечеловеческие усилия, поднимая руку для отдания чести, и очень жалел, что не может хотя бы разок зарядить в глаз какому-нибудь лейтенантишке, не говоря уже о высшем командном составе.
Личный состав отвечал Чугунову примерно такой же нелюбовью. Командир части подполковник Рагозин, сталкиваясь с прапорщиком Чугуновым, кривился так, будто съел лимон. Прапорщик чудесным образом находил свое имя в списке дежурных по части практически на все праздники.
От этого он не то чтобы расстраивался, но ненавидел окружающих сослуживцев еще более люто.
Иногда, устав от такого нервного напряжения, прапорщик Чугунов жестко напивался в каптерке и засыпал на топчане, как раз между мешком с портянками и пахнущими ваксой новыми кирзовыми сапогами.
Если его случайно будили, он устраивал марш-броски на десять километров в полном обмундировании. Впрочем, сам он в них не участвовал.
Солдаты же, надев вещмешки, сумки с противогазами и рожки с боевыми патронами, выбежав из части, курили под елками в лесу, выжидая время. А потом возвращались назад, делая вид, что очень устали от несостоявшегося марш-броска.
Прапорщик Чугунов хорошо знал, что его обманывают. И от этого не любил солдат пуще прежнего.
Однажды прапорщик подрался с другим прапорщиком, Максимкиным.
Никто не знает первопричины. То ли он спутал по пьяни Максимкина с солдатом и сослепу влепил ему оплеуху, то ли наоборот, Максимкин сказал что-то обидное, но драка состоялась и Чугунов вышел в ней бесспорным победителем. Правда, после этого отмотал пятнадцать суток на гауптвахте.
Когда заканчивалось дежурство, он, угрюмый и молчаливый, возвращался домой. Автобус шел до военного городка, а потом еще минут двадцать прапорщик Чугунов шел по грязным улицам и дымил дешевой сигаретой, чтобы успокоиться.
Открывая дверь, обитую коричневым дерматином, он слышал топанье маленьких ножек трехлетней дочки Леночки.
И тогда прапорщик Чугунов садился на табуретку и улыбался. Пожалуй, в первый и последний раз за все сутки.
Колдыб-нога
В соседнем дворе жил Гуля. Его как-то звали, наверняка, и фамилия тоже была. Но кому это интересно, если он был Гулей. Мальчиком с короткой ногой. У него даже башмак был специальный, который ногу увеличивал. Некрасивый такой черный башмак. Мальчик так и гулял, на одной ноге нормальный кед с красной резиновой подошвой, а на другой – черный уродливый башмак.
Бегать он не мог в силу известных причин. Только ходил, как утка, переваливаясь. Поэтому в футбольных сражениях участвовал как комментатор.
– Ну, куда бьешь?! Куда пасуешь?! Руки!! Пенальти!! – орал Гуля, сидя на скамейке, и очень переживал за наших.
Зато в «ножички» равных Гуле не было. Тут он был мастером. Всегда попадал с первого раза, и играть с ним было бесполезным занятием.
Конечно, Гулю дразнили «Колдыб-нога», «Одноногий», «Цапля»… Гуля не обижался, просто внимания не обращал.
– Гуля, тебе не обидно? – не понимал я. – Мне было бы обидно! Это же обидно, когда тебя увечьем попрекают!
– Не увечье. Я родился так, – улыбался Гуля. – Потому и обижаться чего? Вот я тебя назову двуногим, это разве обидно?
– Двуногий не обидно.
– Вот. Потому что ты родился так, вот и не обидно. А я родился с короткой ногой. Ну, и чего мне обижаться?
Логика, конечно, присутствовала. Но мне все равно было обидно за Гулю. Парень он был хороший, нравился мне, хоть и футболист из него никакой.
Лето было. Не то июнь, не то июль, неважно. Мы забрались на стройку. Вы разве не любили в детстве играть на стройке? Там было много интересного. Из сварочных электродов можно было сделать шпаги, карбид найти тоже можно было, а потом его взрывать. Да мало ли? Настоящим мальчишкам всегда найдется дело на стройке.
Мы сидели между третьим и недостроенным четвертым этажом дома, прямо на плите перед провалом, где еще не поставили стену, и болтали ногами. Я, Дюня, Андрюха Белый и Гуля. И тут неожиданно кто-то заорал:
– Эй, вы что тут делаете?!
Сторож. О нем тут ходили легенды. Огромный старик с косматой бородой и вечной ушанкой на голове, с которой он не расставался даже летом.
Мы мгновенно подскочили и дернули наутек. Попасться этому страшному старику никто не хотел. Говорили, что рука у него была тяжелая, практически каменная, и одним ударом он мог спокойно убить человека.
Мы бежали со всех ног, пока не выбежали через дыру в заборе на улицу. И тут до нас дошло, что Гуля остался на стройке!
Ну, конечно! Бегать-то он не мог. Внутри похолодело.
– Гуля… Гуля… – повторял Андрюха, который никак не мог отдышаться.
– Да знаю я! – ответил Дюня. – Что делать-то? Убьет он Гулю!
– Я пойду назад, – решительно сказал Андрюха.
– Я с тобой, – кивнул я.
– Дураки, что ли? Он и вас убьет, не только Одноногого, – побледнел Дюня.
– А ты оставайся, если сцышь!
– Я не сцу! Я просто помирать не хочу!
Мы с Андрюхой ничего не ответили и направились назад, к стройке.
На стройке было тихо.
– Не нравится мне эта тишина, – сказал я Андрюхе.
Тот пожал плечами.
Ступенька за ступенькой, стараясь не шуметь, мы крались наверх, туда, откуда недавно мы бежали сломя головы. Было страшно, чего уж греха таить. Так страшно, что сосало под ложечкой.
Но когда мы дошли до второго этажа, то неожиданно наткнулись на Гулю.
Тот шел, как ни в чем не бывало, прихрамывая своей короткой ногой в некрасивом черном башмаке.
– Гуля!!! – заорали мы оба. – Жив!
– Вы чего, дураки? – удивленно посмотрел на нас тот. – Жив, конечно! Что со мной случится-то?
– А этот… старик, ну, сторож который! Он же тебя одним ударом убить мог! У него рука, говорят, железная!
– Не железная, а деревянная. Протез у него. Он сказал, с войны. Он меня как увидел, ну… не меня, конечно, а ногу, наверное, передумал меня бить. А может, и не хотел вовсе. Просто руку протянул, я пожал. Ну, не руку, конечно, а протез. Запутали вы меня!
– И ничего не сказал?!
– Сказал. Сказал, чтоб мы на стройке не гуляли, что это опасно. Он нормальный вообще, старик этот. Мне его жалко.
– Чего это тебе его жалко? – непонимающе спросил я.
– Ну, как же… с одной рукой живет. Бедняга.
– Да ты сам одноногий! – выпалил Андрюха.
– Не одноногий я, у меня просто нога короткая. И я таким родился. Значит, я не бедняга. Просто такой появился на свет. Но появился же! И это классно. А он двурукий был, а потом на войне ему руку и того. Оторвало. Ну, как его не пожалеть?
– Понятно, – согласился я.
И мы пошли назад, во двор. Лето было. Не то июнь, не то июль. Неважно. Детство, как и лето, было в самом разгаре.
Лампочка
Когда мой жестяной патрон с вольфрамовыми волосками покрыли стеклянным куполом, я родилась. Но даже не успев оглянуться по сторонам, практически сразу же попала в картонную упаковку.
В упаковке было темно и скучно. Я чувствовала, что меня куда-то периодически перекладывали, переносили и перевозили.
Наконец, меня вынули…
Меня держал в руках морщинистый человек в коричневой кепке.
– Стоваттная, е-мое! Слышь, Петровна, ща я тебе стоваттную вкручу, а то в уборной ни хрена не видать… Колюха пьяный вечно на толчок мочится, и сидишь тут в потемках… ни тебе газетку почитать, ни чо другова…
– Крути, милай, крути! На тувалете не экономють!
И меня вкрутили в запыленную стену туалета коммунальной квартиры номер девять.
И тут же включили выключатель…
О, это был восторг! Потоки направленного тока потекли по проводам, нежно коснулись капсюля и вошли в меня… Я блаженствовала, мои волоски напряглись и загорелись желтым пламенем! Начался неописуемый полет!
Но грубые руки щелкнули выключателем, и я потухла.
Однако ненадолго. Я потом научилась регулировать свой восторг, стала более умудренной, опытной, и даже научилась смотреть по сторонам во время моего пылания.
Два долгих года я освещала уборную… Кого и чего я там только не видала. Видала, как пьяный Колюха мочится на стульчак унитаза, электрический свет ему явно не помог. Как его же с большим энтузиазмом рвало после буйного перепоя. Видела, как Тамара Сергеевна втискивалась в узкую комнатку и, кряхтя, опускалась на унитаз, причем я постоянно боялась, что он непременно треснет.
Видела, как прыщавый девятиклассник Сережа мастурбировал по вечерам, разглядывая перефотографированные порнографические карты, которые купил у немого в электричке за три рубля. Видела, как Людочка потеряла невинность со своим студентом юридического Пашей… Видела, как сосредоточенно писал Володя, токарь АЗЛК, сжимая член с таким видом, словно в данный момент вытачивает сверхточную деталь для нового «москвича». Видела, как плакала жена Колюхи, Маша, прижимая к глазу лед из холодильника…
И вот однажды утром Володя щелкнул выключателем… и я не зажглась. Потоки тока напрасно бились о мой капсюль, вольфрам в моем стеклянном теле порвался и беспомощно болтался на усиках…
– Перегорела, сука! – раздраженно сказал Володя, выкрутил меня, отнес на кухню и бросил в мусорное ведро.
Я лежала между картофельной шелухой и завернутыми в газету костями от селедки. Мне было больно и обидно. Но я, в отличие от Маши, плакать просто не умела…
Петровна взяла в руки ведро и пошла выносить…
У подъезда она поставила ведро на землю и отправилась проверять почтовый ящик. Пробегающий мимо пацан выхватил меня из ведра…
Последнее, что я помню, это страшный удар об угол дома и фонтан разлетающегося стекла…
Часть 3
Перекресток с платанами
Осколок
– А у меня оранжевое! – сказал Первый Мальчик и, приложив осколок стекла к глазу, посмотрел на небо.
Небо с другой стороны стекла взглянуло на него темно-оранжевой глубиной и светло-апельсиновыми облаками, медленно плывущими над белобрысыми головами двух мальчишек, лежащих на желтом прибрежном песке.
В нескольких шагах от них так же лениво, как и облака, гнала свои воды узенькая речка.
– Подумаешь, а у меня зеленое, – ответил Второй Мальчик, и небо взглянуло на него салатовым, а солнце оставалось просто солнцем, потому что на него смотреть было больно даже через стекло.
Подумать только, как давно я не чувствовал прикосновения рук. Были времена, когда ко мне прикасались. Но это было очень давно. Так давно, что вспоминаю я об этом все реже и реже, как о том, что уже никогда не вернуть назад. В воспоминаниях моих есть сожаление и разочарование, как бывает, наверное, у Людей, безвозвратно утративших самое главное. Не буду уточнять, что конкретно, ведь главное у каждого свое.
Ни к чему вам моя философия, да и кто я такой, чтобы рассуждать о том, что может быть у них главным?
В последнее время я чувствовал только прикосновения ног или автомобильных шин. На меня наступали подошвы обуви, кожаные и резиновые, полиуретановые и каучуковые, дорогие и дешевые. Это не больно, когда тебя топчут. Да сколько угодно, главное, чтобы не каблуком.
Особенно много боли мне приносили тонкие каблучки женских туфелек. Острые и беспощадные. Изящные и элегантные. Впрочем, как любое зло. В любом зле есть своя элегантность.
Однажды такой каблучок разломил меня напополам. Острая боль пробежала трещиной по моему телу. Когда я очнулся, увидел рядом своего клона. Но я с ним даже не успел пообщаться, потому что шина проехавшего автомобиля навсегда унесла его от меня вместе с дорожной пылью и гравием.
Любой осколок был когда-то частью целого. Людям свойственно создавать и разрушать. Причем последнее чаще. Когда-то и я был частью коньячной бутылки.
Эту бутылку выдул Стеклодув очень далеко отсюда. В стране, где Люди говорят не так, как здесь. Потом бутылку долго везли куда-то, потом хранили в деревянных ящиках, а еще позже в нее налили терпкий напиток цвета крепкого чая из дубовой бочки, наклеили красивую этикетку и опять долго везли.
Через некоторое время бутылку поставили на полку магазина. Еще через некоторое время ее продали Человеку в костюме.
Это были счастливые времена, когда я ощущал прикосновение Человеческих рук. Они были разными, эти руки.
Лучше всего я запомнил ладони Стеклодува и этого самого Человека, который купил бутылку. Того, который в костюме.
Ладони Стеклодува были немного огрубевшими, но в них чувствовалась сила. Физическая сила, которая, впрочем, не мешала очень бережно прикасаться к созданным им бутылкам и ласково поглаживать их по круглым бокам.